amarikesardar
АСМАР
АСМАР
(По народным сказаниям)
Как рассказывают люди, жили муж и жена. Мужа звали Ахмед, а жену Асмар.
Асмар была очень сварливой женщиной. Она была такой скандальной и языкастой, что повстречай ее голодный горный волк, не поздоровилось бы даже ему. Несчастный Ахмед не знал, что ему делать со злым языком жены: бьет – без толку, упрашивает и уговаривает – тоже без толку. Все бы ничего, да вот только дети у них были, и бедный Ахмед, как говорится, попал между двух огней: ни Асмар не может выгнать, потому что дети останутся сиротами, ни жить с ней не может, оттого что больше нет никаких сил. Очевидцы рассказывают, что стоило Асмар открыть рот, как Ахмед затыкал уши и убегал из дома. Ну, убежал бы он из дома раз, убежал бы два, ну, три раза, но ведь каждую минуту, каждый час не убежишь! И несчастный Ахмед думал-думал, ломал себе голову, но никакого выхода не видел. Несколько раз пробовал выгнать жену из дома, но бесполезно – он ее в дверь, а она в окно. Ну, что с такой было делать? Из-за длинного языка Асмар к ним перестали ходить все соседи и родственники. Мало того – несколько соседей, что жили поблизости, и вовсе ушли жить на другой конец деревни. Так и оказалась семья Ахмеда одна-одинешенька на этой окраине.
Однажды вечером Ахмед возвращается домой. Чуть выше деревни замечает колодец. Долгое время стоит около него, думает о чем-то, а потом возвращается домой.
На следующий день Ахмед под каким-то предлогом приводит жену к колодцу.
— Асмар, — говорит он, — а ну-ка посмотри туда, кажется, на дне что-то блестит.
Когда Асмар наклоняется и заглядывает в темную глубину, Ахмед толкает ее и сбрасывает в колодец.
— Там тебе и место, — говорит Ахмед. – Пока не наберешься уму-разуму, не укоротишь свой язык, я не вытащу тебя отсюда. Обещаю, что морить голодом тебя не стану: каждый день буду приносить и хлеб, и воду. Этого вполне 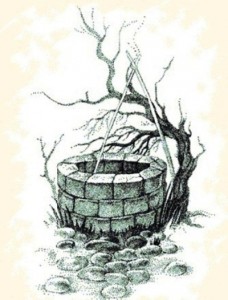 достаточно. Но я не завидую этим стенам: как они, несчастные, выдержат такое соседство?
достаточно. Но я не завидую этим стенам: как они, несчастные, выдержат такое соседство?
Говорят, сколько Асмар ни уговаривала его, сколько ни клялась, что укоротит свой язык, что изменится – Ахмед не поверил, повернулся и ушел домой, к своим детям.
Пусть Асмар остается в этом колодце, стенам которого не позавидуешь, а мы вернемся к Ахмеду.
Каждый день он брал хлеб и воду и относил к колодцу. Все это привязывал к тонкой веревке и опускал вниз. Он нарочно не пользовался веревкой потолще, чтобы Асмар не могла уцепиться за нее и выбраться наверх.
Сколько времени продержал Ахмед жену в колодце, нам не известно. Пусть это останется на его совести.
С каждым днем Ахмед все сильнее и сильнее чувствовал, как тяжело одному растить малых детей. Он видел, как его дети, до этого такие живые и озорные, тоскуют по матери и с каждым днем тают, как маленькие свечечки. Однажды Ахмед сидел, опустив ноги в еще теплый тандур, грелся, а на его коленях пристроился младший сынишка. Малыш сначала сидел тихо, а потом вдруг повернулся лицом к отцу и жалобно спросил:
— Папа, а мама когда придет?
Слова сына так подействовали на него, что он долго не мог найти себе места и в конце концов для себя решил: хотя бы ради детей, но завтра пойду и вытащу Асмар из колодца.
На следующий день Ахмед берет большую корзину, длинную веревку и идет к колодцу.
— Будь ты проклята, Асмар, — кричит в глубину Ахмед. – Скажи спасибо своим детям, я ради них достаю тебя отсюда. Не то я поклялся, что даже кости твои не увидели бы белого света и там же прогнили бы, — говорит он в сердцах, привязывает корзину к веревке и кидает в колодец.
Когда корзина оказывается наверху, Ахмед смотрит и от ужаса холодеет… Страшное зрелище предстает перед его глазами: в ней сидит огромная змея, которая вся съежилась и смотрит на него испуганными глазами.
— О, человек, спасибо тебе, — говорит Ахмеду змея человеческим голосом, — ты спас меня от языка Асмар, и я твоя должница. Проси у меня что хочешь, я выполню любое твое желание.
У перепуганного Ахмеда язык не поворачивается что-то сказать. Он только стоит, вытаращив глаза, и молчит. Видя, что он не может вымолвить ни слова, змея говорит ему:
— Я заклятый враг человеческой породы. В моей натуре незаметно подползать и намертво обвивать людям шею. Сейчас я направлюсь во дворец к вашему падишаху и обовью шею его дочери. Он созовет лекарей, ученых мужей, ясновидцев, но я не отпущу ее. Падишах окажется в безвыходном положении, и тогда ты иди к нему и скажи, что можешь вызволить его дочь. Он, конечно, тебе разрешит, и когда ты войдешь в ее покои, скажи мне вот какие слова: «Диво дивное, оставь эту молодую девушку в покое, пусть себе спокойно живет». И я ее оставлю. Отец в знак благодарности будет готов осыпать тебя дарами, и тогда проси у него, что хочешь. Это и будем моим долгом за то, что ты спас меня от языка Асмар. Но помни: я послушаю тебя только один раз. Если в каком-нибудь другом месте я обовьюсь вокруг чей-то шеи и ты придешь, клянусь, я так укушу тебя, что ты упадешь замертво. Итак, помни о нашем договоре – только один раз, слышишь? Только один раз!
И змея неслышно и стремительно выскальзывает из корзины и уползает прочь.
Ошеломленный Ахмед берет свою корзину и веревку и, оставив Асмар в колодце, возвращается домой.
На следующий день по всей округе разносится слух, что змея прокралась в покои дочери падишаха, обвила ее шею и не отпускает. Чего только ни делают, каких только ни созывают лекарей, ученых мужей, ясновидцев, как только те ни бьются, но змея девушку не отпускает. Падишах в отчаянии дает обещание: кто, мол, мою дочь вызволит, я исполню любое его желание.
Ну, после такого обещания люди потоком стекаются ко дворцу, каждый пытается освободить девушку, но ни у кого ничего не получается.
Слух о змее, обвившейся вокруг шеи девушки, доходит и до Ахмеда. В один прекрасный день он набирается смелости, идет к дворцу падишаха и говорит привратникам, что пришел освободить его дочь. Эта фраза так часто звучала в последние дни, что слуги даже не торопятся пойти и доложить своему хозяину о приходе очередного «спасителя». Когда наконец ему докладывают об этом, падишах распоряжается, чтобы Ахмеда пропустили.
— Сынок, — говорит ему падишах, — знай, что я очень люблю свою дочь. Если ты освободишь ее, проси у меня все, что душа пожелает. Но если нет, я прикажу отрубить тебе голову. В последнее время я немало повидал таких как ты: они приходили, уходили, но так ничего и не сделали. Я устал от этого, и для того, чтобы всякие лгуны и мошенники больше не приходили сюда и не бередили напрасно мои раны, я должен тебя наказать, чтобы это стало для всех уроком.
Ахмед отвечает:
— Хорошо, падишах, пусть будет по-твоему.
Падишах отдает распоряжение, и слуги отводят Ахмеда в покои его дочери.
Ахмед заходит и видит: вокруг шеи девушки обвилась та самая змея, которую он вытащил из колодца. Змея тоже, в свою очередь, косится на Ахмеда и сразу узнает своего спасителя. Ахмед вспоминает те слова змеи и говорит ей:
— Диво дивное, оставь эту молодую девушку в покое, пусть себе спокойно живет.
Змея тут же ослабляет свою хватку, тихонько соскальзывает с шеи девушки и стремительно уползает прочь.
Падишаху сообщают радостную весть о том, что Ахмед освободил его дочь. Радостный отец нетерпеливо спешит в ее покои и видит – дочь его цела и невредима, стоит в сторонке и смотрит на Ахмеда влюбленными глазами. Увидев падишаха, она кидается ему на шею и говорит:
— Отец, вот тот человек, который меня спас, — и указывает на Ахмеда.
Падишах подходит к Ахмеду, целует его в лоб, благодарит и говорит:
— Ну, а теперь проси, сынок, чего хочешь. Я готов исполнить все, что ты пожелаешь.
— Благодарю тебя, мой падишах, да процветают твои дни, мне ничего не нужно.
— А ты женат? – спрашивает падишах.
— Я женат, но моя жена умерла, — отвечает Ахмед.
— Ну, раз так, тогда, мой дорогой Ахмед, я благословляю тебя и мою дочь. Будьте счастливы. Я поклялся: если тот, кто освободит мою дочь, будет неженатым или же вдовцом, я отдам свою дочь этому человеку в жены. Ты ее спас, и по Божьей воле она теперь твоя. Идите и будьте оба счастливы.
И Ахмед становится зятем падишаха. Его имя у всех на устах, все кругом только об этом и говорят, и слух о том, как он спас дочь падишаха, распространяется повсюду, даже в соседних странах.
Но однажды настает тот день, когда становится известно, что одна змея обвилась вокруг шеи дочери падишаха, правящего страной по соседству. А надо сказать, что между этим падишахом и тестем Ахмеда были хорошие добрососедские отношения. И вот отец несчастной девушки направляет к тестю Ахмеда своих гонцов и просит, чтобы тот послал своего зятя к нему освободить его дочь. Падишах зовет к себе Ахмеда и передает ему эту просьбу.
Ахмед пугается не на шутку и понимает, что оказался в безвыходном положении: отказать не в силах, но и пойти тоже не может. Ведь змея ему наказала, что может послушаться его только один раз. И как теперь ему быть?
Ахмед ломает себе голову, долго думает, думает, но так ничего и не придумывает. Отчаявшись, в сердцах говорит сам себе: «Будь что будет, пойду, деваться некуда. Уж лучше смерть от укуса змеи, чем позор на всю жизнь». И, сев в фаэтон падишаха, трогается в путь.
По дороге тоже много думает, и в самом конце пути ему в голову вдруг приходит одна мысль.
Падишах радушно принимает гостя, сам приводит его к покоям своей дочери и хочет вместе с ним зайти внутрь, но Ахмед не пускает и говорит, что должен войти туда один.
Когда Ахмед открывает дверь и заходит, змея бросает на него жгучий взгляд и грозно шипит:
— Ведь я сказала тебе, что только один раз. Ты зачем пришел?
И испуганный Ахмед одним духом выпаливает:
— О, несчастная, я пришел сюда не для того, чтобы просить отпустить эту девушку, а для того, чтобы предупредить тебя, что Асмар выбралась из колодца и теперь повсюду тебя ищет…
Не успел Ахмед договорить, как змея мгновенно соскальзывает с шеи дочери падишаха и тут же исчезает.
С тех пор змею в этих краях больше никто и никогда не видел.
ЭХ, АЙШЕ, АЙШЕ…
ЭХ, АЙШЕ, АЙШЕ…
Айше была ужасно языкастой и скандальной женщиной. В деревне, пожалуй, не осталось ни одного человека, с кем бы она не поругалась. Того и глядишь, с утра пораньше она выходила во двор и, придравшись к какому-нибудь пустяку, начинала скандалить с очередным соседом или соседкой. Айше бранилась до тех пор, пока не выплескивала все, что кипело на сердце, и, ясное дело, такие «теплые» отношения с односельчанами постепенно привели к тому, что люди перестали ходить к ней домой и старались держаться от нее подальше.
Эти ссоры и скандалы стали для слуха сельчан уже чем-то обычным, но однажды соседи обратили внимание на то, что вот уже несколько дней голос Айше в деревне не слышен.
— Интересно, что случилось? Она что, язык проглотила? – удивлялись они.
В тот день Кно с лопатой на плече направился к истоку. Путь его пролегал мимо дома Айше, и когда он был уже недалеко, из дома вдруг вышла она и, стоя у двери, окликнула его:
— Кно, Кно, ради Бога, подойди сюда! Я хочу тебе кое-что сказать!
Первым делом Кно подумал, что Айше нарочно подзывает его поближе и на самом деле просто хочет устроить очередной скандал.
— Я спешу, Айше! Вода льется на мой огород, и мне нужно скорее туда, к истоку.
— Нет, нет, я тебя очень прошу, ради Бога, подойди! Я должна сказать тебе что-то очень важное!
— Тебе что, опять приспичило поругаться? Теперь я на очереди?
— Да нет, что ты! Что я, с ума сошла, чтобы с тобой ругаться? Ты же ничего такого не сделал! Я только хочу тебе кое-что сказать.
Кно почувствовал, что просто так от Айше не отделается, и с лопатой на плече подошел поближе.
— Ну, наконец-то! Добро пожаловать, — сказала Айше с довольной улыбкой. – Проходи, присаживайся рядом со своей сестрой, — и немного подвинулась, освобождая для Кно место на большом плоском камне у двери.
Кно показалось, что плохого у Айше на уме нет, поэтому уже без прежней подозрительности подошел к тому камню, положил лопату на землю и присел рядом с женщиной.
— Ну а теперь, Кно, я тебя очень прошу, ради Бога, выругай меня последними словами, — неожиданно сказала Айше.
— Ты что, спятила? – Кно от удивления вытаращил глаза и не мог поверить своим ушам. – За что???
— Если ты хоть немного веришь в Бога, ты должен выругать меня последними словами, — твердо и настойчиво повторила Айше и вдруг неожиданно сверкнула каким-то странным взглядом: — Если ты этого не сделаешь, я такое сделаю над твоей головой, что вовек не забудешь!..
Бедный Кно вконец растерялся и не знал, что делать. Что-что, но характер Айше он знал хорошо и понимал: если что-то взбрело ей в голову, то лучше сделать так, как она говорит, не то спасенья от нее не будет никакого.
— Нет, ты все-таки мне скажи, зачем тебе нужно, чтобы я стал поносить и оскорблять тебя? – снова спросил Кно. Бедняга выглядел так, словно его шарахнули по голове чем-то тяжелым, и понятное дело – кто бы не растерялся, услышав такую странную просьбу?
— Ты сначала сделай это, а я потом тебе все объясню, — ответила она.
— Ну, раз так… — и Кно зажмурился, открыл свой рот и сколько знал отборной ругани, на сколько хватило его грубой мужской фантазии… — всё выложил как на духу. Он поносил ее последними словами, обзывал по-страшному, крыл на чем свет стоит, посылал ее куда только можно послать… Одним словом, сказано было многое…
По мере того как из уст Кно сыпались непотребные слова, лицо Айше становилось все более ликующим, воодушевленным и довольным. Казалось, то, что она слышала, ей безумно нравилось и наполняло ее сердце неподдельной радостью…
После того, как Кно закончил свою «пламенную» речь, Айше повернулась к нему с широкой улыбкой и ответила такой крепкой бранью, до которой сквернословию Кно было ох как далеко…
Когда все было высказано, Айше с явно облегченным сердцем перевела дух, немного помолчала и со вздохом тихо сказала:
— Да будет земля пухом праху твоего отца… Оф…, наконец, мое сердце успокоилось…
И Айше рассказала, как несколько дней назад ее сын Халыт пригрозил ей, что выгонит ее из дома и не будет считать ее матерью, если она не перестанет ссориться с соседями. «Ты, — говорил он, — опозорила нас на всю деревню, ты сделала так, что к нам никто не ходит. Хватит, я больше этого не потерплю…» Вот почему Айше боялась эти последние дни с кем-то ругаться, но терпение ее лопнуло, и поэтому она и позвала Кно…
— Кошмар какой-то… — пробормотал втянувший голову в плечи Кно, встал, подобрал свою лопату и убрался восвояси.
После этого случая скандалы и ссоры Айше с соседями случались очень и очень редко.
ТЯЖКИЙ ГРЕХ
ТЯЖКИЙ ГРЕХ
(Быль)
Это случилось очень давно, в те времена, когда краж совершалось великое множество и им не было конца-краю. Чтобы сказать, что причиной тому был голод и нечего было есть – вовсе нет. Более-менее, иногда с немалым трудом, но людям все же удавалось вести хозяйство, добывать пропитание и содержать свои семьи. Но число краж росло, и дело дошло до того, что воры стали объединяться в группы и своими черными делами доводили людей до разорения и обнищания. И власти, и законы были бессильны – кто что хотел, то и делал, и никто ничего не боялся. Воры орудовали не только в той деревне, где жили сами, но и отправлялись за наживой в близкие и дальние села. Они присматривали и выбирали какой-нибудь дом, где можно было хоть чем-нибудь поживиться, и пока не обчищали его, не успокаивались. Кроме мелкого воровства, происходившего практически каждый день, совершались и крупные кражи, которые приходились на осень, когда приготовления к зиме уже заканчивались: масло к тому времени было растоплено, а бурдюки с творогом и сыром наполнены до верху.
От воровства не спасали даже караульные, которые с ночи до самого утра следили за деревней. Негодяи так ухитрялись воспользоваться моментом, что всегда оставались незамеченными, а наутро какая-нибудь из семей с воплями и криками выбегала во двор и разражалась проклятиями и причитаниями. Что такое, что случилось? Оказывается, этой ночью воры залезли в их кладовую, сгребли все продукты и унесли, оставив на пороге зимы всю семью без пропитания.
Редко какой месяц обходился без воровства. Чтобы с этим как-то бороться, старейшины деревни собирались, обсуждали каждый конкретный случай, высказывали свои подозрения, кто бы мог совершить это, потом эти подозрения отметались, придумывались разные способы, как изловить воров, но все напрасно: никто не отыскивался, никто не наказывался, а кражи как были, так и продолжались.
Хромой Сывык – вор-калека – сколотил вокруг себя шайку себе подобных и по ночам занимался своими темными делами. Домашняя скотина – овцы, коровы – его не интересовали: он крал в основном продукты. Если подворачивался удобный момент или заранее удавалось что-то разнюхать, то к его добыче нередко прибавлялись деньги и золото.
В ту ночь Сывык и несколько его сообщников направились в соседнюю деревню и стали «гостями» семьи Аджо. Его дом стоял на самой окраине, рядом с оврагом. Там и спряталась вся группа, выжидая тот момент, когда караульные обогнут дом и пойдут дальше. Наконец, те скрылись из виду, и воры вылезли из оврага. Двух человек оставили снаружи следить за обстановкой и в случае опасности подать сигнал тревоги, а Сывык с остальными прокрались к дому, поднялись на крышу, через световое отверстие на потолке в сенях проникли внутрь и направились в кладовую. Оттуда вытащили и вынесли к дверям чаны с топленым маслом и несколько бурдюков с творогом и сыром. Но этого Сывыку показалось мало. Он слышал, и не раз, что Аджо – человек с деньгами и дома держит золото, и поэтому, решив не упускать подвернувшийся случай, он сказал своим товарищам, чтобы немного его подождали – хочу, мол, заглянуть еще в комнату и посмотреть, есть ли там что-то стоящее. Воры открыли изнутри дверь и стали вытаскивать продукты во двор, а Сывык тем временем проскользнул в комнату. Все крепко спали, и вор первым делом направился к стеру. Запустив руку между одеялами и матрацами, он ловко обшарил всё сверху донизу, как вдруг послышалось всхлипывание ребенка. Вор замер на месте. Малыш снова подал голос, и Сывык, кинувшись к люльке, взял ребенка на руки и стал его убаюкивать, надеясь, что тот успокоится и заснет. Но, видно, младенец проголодался или был мокрым и никак не унимался. Сывык в отчаянии и панике стал оглядываться по сторонам, и вдруг его взгляд упал на большой чан, стоявший в углу. Сывык, прижимая к себе ребенка, мгновенно оказался около этого чана, отшвырнул тряпку, которой было накрыто горлышко, и запустил руку вовнутрь. Чан оказался наполовину заполненный соленьем. Недолго думая, вор засунул младенца вниз головой в чан, подобрал с пола тряпку и покрыл ею горлышко. Потом снова порыскал вокруг в поисках чего-то ценного, но, так и не найдя золото, положил себе что-то за пазуху и вышел из дома. Около дверей его ждали товарищи, и как только он оказался рядом, один из них спросил:
— Ну что, нашел что-нибудь?
— Нет, валла, где только не искал, ничего ценного не нашел, — ответил Сывык и непроизвольно поднес руку груди. Но было темно, и никто ничего не заметил.
— А что, ребенок проснулся? Мы тут детский плач услышали, — беспокойно спросил другой вор.
— Да.
— Ну, пошли, чего мы ждем? Раз ребенок проснулся, он снова может заплакать. Не дай Бог, перебудит всех, и тогда Аджо с нас три шкуры спустит!
— Я так заткнул ребенка, что он замолк навечно, — спокойно бросил Сывык и пошел вперед.
— Ты что, убил его? – ахнул вор и остолбенел на месте. – И тебе не жаль было этого грудного ребенка? Как ты мог? Ведь это же тяжкий грех!
Сывык ничего не ответил и до самого оврага шел молча. Там они присоединились к поджидавшим их сообщникам и спустились в овраг.
— И не жалко было? Как ты мог убить его? – снова подал голос тот самый вор, который никак не мог уняться.
— Я не убил, — спокойно и коротко отрезал Сывык.
— А как ты заставил его замолчать? Я как услышал детский плач, сразу подумал, что Аджо вот-вот проснется и поймает Сывыка на месте. Если бы ты еще хоть немного задержался, мы уже не стали бы тебя дожидаться и поскорей бы смылись.
— А я-то думал, что ты верный друг! Нет, дорогой мой, хороший товарищ, настоящий товарищ никогда друга в беде не бросит и не побежит. Что бы то ни было, ты должен был остаться и прийти мне на помощь!
— Мало ли, что он сказал, — вмешался в разговор другой вор. – Неужели ты поверил, Сывык, что мы оставили бы тебя одного? Разве мы не пришли бы к тебе на выручку?
Сывык ничего не ответил. Все тоже молчали и быстро спускались вниз. Вдруг тот самый вор, который никак не мог успокоиться, снова полез с расспросами.
— Сывык, да будет покой душе твоего отца, все-таки скажи, что ты сделал с тем ребенком?
— Я засунул его вниз головой в чан с соленьем, — ответил Сывык так спокойно, как будто ничего особенного не случилось и как если бы он сказал своим товарищам о том, что ему хотелось пить, и он, взяв кружку, просто выпил воды.
— Что? – вор не поверил своим ушам и вытаращился на Сывыка. – Что ты сказал?
— Я сказал, что засунул ребенка вниз головой в чан с соленьем и засолил его, чтобы их соленье хватило бы им аж до самой весны, — попробовал обратить в шутку свой ответ Сывык и в восторге от своего чувства юмора ехидно рассмеялся.
— Ты что, правду говоришь? – все еще не мог поверить услышанному вор и встал как вкопанный.
— Конечно, правду. Мне что, делать нечего – тут с вами шутки шутить?
— Тьфу на тебя, бессовестный! И как у тебя рука поднялась?
— А что мне еще оставалось делать? Ждать, чтобы он своим плачем перебудил всех и нам пришел бы конец? Пошевели хоть немного своими мозгами, хоть Бог особо ими тебя не наградил. С таким умом, как у тебя, неудивительно, что ты до сих пор ходишь голодранцем и не можешь ни хозяйство содержать, ни хлеб добыть.
— А ты думаешь, тот хлеб, что ты добываешь, можно есть? – подал голос другой вор. – Это же поганый, оскверненный хлеб!
— Скажите пожалуйста! Можно подумать, я ночи спать не буду, если ты не станешь есть мой хлеб. Ради Бога, ты думаешь, твой хлеб чистый? Да на твоей совести столько грехов, что просто не счесть! Забыл, сколько человек по твоей вине остались голодными? И ты еще что-то говоришь? Ведь если бы не я, ты бы давно сдох с голоду. Поглядите-ка на него, а? Что случилось? Я тебя от Аджо спасать буду, приносить тебе добычу, а ты мне в ответ такое, да?
Воры не проронили ни слова. Сывык не увидел в этом ничего хорошего, но не стал дальше спорить. Так, в полном молчании, они шли вперед, и тишину нарушало только их пыхтение под тяжестью наворованных продуктов. Дойдя до места, самый старший из воров повернулся к Сывыку и сказал:
— Значит так, голубчик. Тот бурдюк, что у тебя за спиной, — он твой, можешь забирать его. Но с сегодняшнего дня ты нам больше не товарищ и оставь нас в покое. Ты сам по себе, мы сами по себе. Как говорится, «вор, но вор с совестью». Мало того, что у тебя нет ни капли совести, ты, оказывается, ко всему еще и настоящий зверь. Придет момент, и от тебя можно ждать чего угодно. Так что иди, мой дорогой, с этого дня наши пути разошлись.
— Ну и не нужна мне ваша дружба, подумаешь! И без нее прекрасно обойдусь, — разозлился Сывык. – Да если бы не я, вы бы давно сдохли с голоду! Если у вас что-то и есть, то только благодаря мне! Еще спасибо скажите, что я водил с вами компанию. Нет, ты только посмотри на этих неблагодарных, как они о себе возомнили! О совести вдруг вспомнили, о чистоте хлеба заговорили… Ну, давайте, продолжайте в том же духе, а я посмотрю, что из этого выйдет.
— Что бы мы ни делали, но грудного ребенка не стали бы с головой засовывать в чан с соленьем, — сказал тот взрослый вор. – Может, мы убили бы его или задушили, но никогда не сделали бы того, что ты сотворил…
— Да ради Бога, какая разница?
— Разница большая, несчастный, только для того, чтобы это понять, у тебя мозгов не хватает.
— У меня мозгов не хватает?
— Да, у тебя мозгов не хватает.
Первым порывом Сывыка было горячее желание скинуть со спины бурдюк и наброситься с кулаками на того вора, кто посмел с ним так нагло разговаривать, но, видя, как остальные стоят молча и всем своим видом показывают, что его поступок им не по душе, Сывык был вынужден сдержаться. Он понял, что они непременно встанут на сторону его противника и в итоге он останется один, жестоко избитый и вдобавок без своей доли. Внутри него все кипело, но, решив отложить расправу до более удобного момента, он лишь сказал, что хочет забрать причитающуюся ему часть масла, на что в ответ получил следующее:
— Хватит с тебя и одного этого бурдюка, а будешь много говорить, его тоже отнимем, — пригрозили ему воры. – Мы просто не хотим, чтобы ты вернулся к жене и детям с пустыми руками. Убирайся, пока живой, не то мы за себя не ручаемся. И благодари Бога, что этой ночью ты так легко от нас отделался.
— Но хорошо запомни, — добавил тот взрослый вор, — ты за это поплатишься.
— Да что вы? – ехидно и с наглой издевкой бросил Сывык. – И что вы сделаете?
— А что сделаем или не сделаем – это наша забота, а ты убирайся отсюда, пока цел.
Сывык понял, что дело плохо, с ними не договоришься, а будешь продолжать – будет еще хуже. Поэтому ничего не ответил, рывком подправил бурдюк у себя на спине, отвернулся и направился в сторону своего дома.
— Мы должны его наказать, — сказал тот взрослый вор, когда Сывык был уже далеко.
— Да, нужно, — отозвался другой. – Этот живодер должен получить по заслугам.
— Он не то что должен получить по заслугам, а это мы должны его наказать, чтобы он знал, что не всё в этой жизни может сойти с рук, — сказал третий вор. – Турки – и те таких зверств не вытворяли.
— Послушайте меня, ребята, — обратился ко всем старший вор, — тот хлеб, который мы едим, и правда кровавый. Если хотите знать мое мнение, давайте поклянемся друг другу, что перестанем воровать и разорять людей и что больше никогда по нашей вине не совершится такой кошмар. Я скажу вам правду: после того, что случилось сегодня ночью, я уже не смогу, я просто не посмею позариться на чье-либо добро.
Остальные воры, на которых тоже довольно сильно подействовал поступок Сывыка, недолго думая, согласились с ним и поклялись, что больше никогда не будут воровать, а еще дали друг другу клятву непременно отомстить ему за того невинного младенца.
И с того самого дня они действительно оставили это постыдное занятие и стали жить как все обычные работяги, добывая пропитание только честным трудом.
* * *
Проснувшись рано утром, невестка первым делом подошла к люльке и застыла – ребенка в люльке не было. Растерявшись, она принялась громко цокать, и удивленная свекровь спросила:
— Что случилось, дочка?
Невестка снова зацокала и указала рукой на люльку. Свекровь подошла к колыбельке, заглянула в нее и видит: люлька пуста, младенца там нет.
— А где ребенок? – удивилась свекровь и повернулась к невестке. Та стояла бледная, напуганная и вся тряслась. Бедняжка еле держалась на ногах и в ответ могла лишь пожимать плечами и отчаянно цокать.
На поиски малыша кинулась вся семья. Где только не смотрели, куда только не тыкались, всё напрасно – нет ребенка и всё! Горе обрушилось на дом Аджо. На крики и причитания сбежались соседи и с удивлением узнали, что случилось. После первого приступа недоумения поднялся сильный шум и гам: люди терялись в догадках, каждый высказывал что-то свое, все озадаченно спорили друг с другом, и во всеобщем гуле мало что можно было разобрать. Молчала только бедная невестка, не смея ни толком заплакать, ни запричитать. (Прошел только год, как ее привели, и она пока не имела права разговаривать). Несчастная лишь вся сжалась в комок и тихо всхлипывала.
Вдруг во всеобщей суматохе кто-то заметил, что световое отверстие на потолке в сенях сильно разворочено.
— Видно, этой ночью воры пробрались в дом, вот почему входная дверь была открыта, — осенило хозяина дома, и он тут же устремился в кладовую. Вслед за ним пустилась вся семья. Первый же беглый взгляд на продукты сразу обнаружил пропажу: нет ни чана с маслом, ни бурдюков с творогом и сыром. У хозяйки подкосились колени, она медленно осела и в отчаянии стала бить себя по голове:
— Горе мне! Оставили семью без куска хлеба! Что нам делать этой длинной зимой, чем прокормиться?
Хозяйка горько плакала и не переставала осыпать воров проклятиями. Аджо тем временем, не обращая внимания на вопли и крики жены, резко повернулся, поспешил в хлев, как будто что-то поискал там, вроде бы нашел и, успокоившись, повернулся туда, где были животные. (Сам хлев был разделен на две части: в одной держали овец, а в другой – коров и пару волов). Видит – крупная скотина на месте. Потом пересчитал овец – овцы тоже целы. Поблагодарив в душе Бога за то, что воры ничего не тронули и что всё могло быть гораздо хуже, Аджо вышел из хлева и поспешил к жене. Стараясь ее как-нибудь успокоить, он не знал, куда деваться от жгучего чувства стыда за то, что он, мужчина и хозяин, будучи у себя дома, мог так сплоховать и не прознать, что в его же дом проникли воры и нагло его обворовывают. А впридачу еще и ребенок исчез.
— Что за несчастье, люди? – в отчаянии сказал Аджо, обращаясь к соседям.
Каждый из них, невольно представляя себя в его положении, проявил неподдельное участие и сострадание, но посоветовать мог только одно – проверить всех подозреваемых клятвой, произнесенной лицом к Солнцу[1].
Короче говоря, этот день прошел, и на следующее утро, перед самым рассветом к центру деревни привели несколько человек, на кого пало подозрение Аджо. К тому времени туда уже сбежались все сельчане, и когда солнце встало, священнослужители, обратив каждого подозреваемого лицом к светилу, велели ему поклясться. Все, один за другим, дали клятву, что не имеют никакого отношения к воровству в доме Аджо. Это и убедило и хозяина дома, и всех остальных в том, что эти люди не лгут, потому что в те далекие времена вера в силу данного перед лицом Солнца слова была безгранична, и им совершенно не приходило в голову, что даже при таких обстоятельствах можно дать ложную клятву. Тем самым для сельчан стало ясно, что воры не из их деревни и, следовательно, поймать их и разоблачить практически невозможно.
Что касается загадки исчезновения ребенка, то она не поддавалась никакому разумному объяснению и поэтому все больше и больше окутывалась тайной. Родилась даже такая легенда, что ребенка, скорее всего, унесли ангелы, и пока эта «догадка» с одних уст доходила до слуха другого любителя послушать невероятные истории, она обрастала все новыми подробностями и фантастическими деталями.
Трудно передать, что приходилось испытывать несчастной и убитой горем матери. Несколько сплетниц до того потеряли совесть, что распустили по всей деревне слух, якобы невестка, кормя грудью ребенка, заснула, и малыш задохнулся, а потом, когда она проснулась и увидела, что ребенок мертв, испугалась, что муж, свекор и свекровь прибьют ее, сама взяла и где-то его зарыла. Слыша такие разговоры, многие взрослые и мудрые женщины недовольно качали головой и, цокая, возмущались:
— Вот несчастная, что за грязные сплетни, — говорили они. – Как можно нести такую чушь? Стыдно, перестаньте разносить этот бред, хватит говорить глупости.
Но разве всем закроешь рты? Сколько людей, столько и разговоров. Одни сплетни противоречили другим, другие, наоборот, подтверждали и дополняли их, и эта темная и непонятная история с ребенком оттеснила на задний план и заставила позабыть о другой истории, произошедшей в ту ночь – о воровстве в доме Аджо. Все только и делали, что судачили об этом, и нелепые предположения и сплетни то и дело доходили до бедной матери, причиняя ей все большую и большую боль. Она же, бедняжка, была, как и положено быть всем молодым невесткам, бессловесной и кроткой и ничего не могла поделать – ни возразить, ни защитить себя, ни тем более заставить замолчать. Ей оставалось только безропотно выносить все услышанное и молча глотать душившие ее слезы.
* * *
Прошло несколько дней. Как-то раз, когда для мужчин накрывали на стол, свекровь сказала невестке принести немного соленья. Та, взяв тарелку, подошла к чану, откинула прикрывшую горлышко тряпку и запустила руку внутрь. Внезапно раздался ее дикий и истошный крик, и невестка без чувств рухнула на пол. На шум прибежала перепуганная свекровь и, увидев бедняжку в глубоком обмороке, кинулась тормошить ее, ударять по щекам, но напрасно – та никак не реагировала. Свекровь вскочила, наполнила кружку водой и, присев рядом с невесткой на корточки, стала брызгать ей в лицо. Женщина старалась и так и сяк, и, наконец, с большим трудом ей удалось привести невестку в чувство.
— Что случилось, дочка? Что с тобой? – беспокойно спросила она, когда та немного приоткрыла глаза.
Невестка вся дрожала, водила вокруг мутным взглядом, и было видно, что она сама еще не очень хорошо осознает, что случилось. Окончательно придя в себя, невестка вся съежилась, горестно зацокала и указала рукой на чан, стоявший в углу. Свекровь встала, подошла к чану и заглянула внутрь. Страшная картина предстала у нее перед глазами: голенький младенец засунут вниз головой в груду соленья. Тельце ребенка быстро вытащили из чана, и поднявшиеся вопли, причитания и плач возвестили об обрушившемся на дом горе. Сбежались все соседи. Люди были ошеломлены увиденным и услышанным. Никто не мог оставаться равнодушным, и каждый торопился высказать свою версию, как такое могло случиться.
Сосед по имени Ало тоже был там. Это был умный и дальновидный человек, любил спокойно и логически рассуждать и всегда приходил к верному мнению. Сельчане хорошо знали об этой черте его характера, и стоило ему начать выспрашивать и доискиваться до причин чего-то случившегося, то ни у кого не оставалось никаких сомнений, что он обязательно докопается до сути дела и раскроет правду. Ало стоял в группе мужчин, но в общем разговоре не участвовал. Он лишь молча слушал то, что говорили другие, и не упускал ни одного слова.
— А вы ничего не почувствовали? – неожиданно спросил Ало у Аджо.
— Что не почувствовали? – Аджо не сразу понял, о чем речь.
— Ну, в ту ночь, когда воры залезли к вам, никто из домашних ничего не услышал? Например, какой-нибудь шум или что-то еще?
— Нет, валла, лично я ничего не слышал, — ответил Аджо и покачал головой. – Как назло я спал так крепко, не то эти негодяи так просто не отделались бы! Им тогда просто повезло.
— А утром, когда все встали, вы не почувствовали, что в домашних вещах копались?
— Ты смотри-ка, какие Ало вопросы задает, — повернулся к стоявшим рядом один из соседей – мужчина средних лет. – Прямо как настоящий судебный чиновник! – Ало никак не отреагировал и лишь слегка улыбнулся.
— Не знаю, я ничего не заметил, — ответил Аджо. – Когда невестка сказала, что ребенка в люльке нет, мы уже так смешались, что нам было не до этого. А потом, когда узнали, что вдобавок и воры залезли в дом, мы еще больше растерялись, и тут уж никто не разбирал – что унесли, что оставили… Может, позже хозяйка и обнаружила какую-нибудь пропажу, я не знаю, она мне ничего не говорила. Подожди, я сейчас у нее спрошу, — и Аджо позвал жену: — Женщина[2], подойди-ка сюда.
Из группы женщин, стоявших рядом, вышла одна среднего возраста, подошла поближе и вопросительно посмотрела на мужа.
— Послушай, тут спрашивают, на следующее утро, после того, как к нам залезли воры, или позже ты не заметила в доме беспорядка? Может, кто-то рылся в наших вещах? – спросил Аджо.
— Как не заметила? – отозвалась жена и в присутствии мужчин, как полагается, поспешила отвести взгляд в сторону. – Весь наш стер разворошили, постели для гостей, хурджины, которые были там, всё перевернули.
— А что-нибудь взяли или нет? – вмешался Ало.
— Несколько разноцветных головных платков невестки. Больше ничего ценного в хурджинах не было, только это, — ответила хозяйка и посмотрела на мужа, ожидая, что ее спросят еще о чем-то. Но Аджо молчал, и она добавила: — Ведь я тебе в тот же день сказала, что именно унесли.
— Да-да, ты сказала, — с досадой отозвался Аджо, — да разве всего упомнишь, будь оно проклято… А ведь некоторые берут грех на душу и говорят, что у Аджо есть золото. Только откуда этому золоту взяться? Если бы оно у меня было, разве в наших хурджинах были бы только те тряпки? Что было ценного в этом доме, так это несколько цветастых платков, и те унесли!
— А той ночью ты совсем не слышала, как плачет ребенок? – уже не обращая внимания на слова Аджо, спросил Ало у хозяйки.
— Все уже давно спали, как мне что-то такое послышалось, — ответила она. – Мне даже неловко, но вы мне как братья, и, по правде говоря, в ту ночь я спала как убитая до самого утра. Но помню, как в какой-то момент все же уловила краем уха, что ребенок заплакал, — уверенно сказала хозяйка и сложила руки на груди в ожидании дальнейших расспросов. Но никто больше ничего не спросил. Все лишь молча смотрели на Ало: именно он начал этот разговор, и поэтому все с нетерпением ждали, что он скажет дальше. Но Ало не торопился ничего говорить, и было видно, что прежде чем окончательно высказать свое мнение, он хорошенько обдумывает все услышанное.
— Мне кажется, — степенно прервал молчание Ало, — когда воры взяли продукты, им показалось этого мало, вот они и полезли искать то, чем еще могли бы поживиться. – Тут Ало нарочно сделал паузу, и присутствующие, переглянувшись, прекрасно поняли, куда он клонит. Все хорошо знали, как скуп Аджо и что золото у него водится, вот только он, что бы ни случилось, никогда его не трогает, отчаянно бережет, и один только Бог знает, где его хранит. Видно, не случайно, когда стало известно об исчезновении ребенка и краже продуктов, многие заметили, как Аджо, позабыв о внуке, первым делом кинулся в хлев, внимательно его осмотрел, словно что-то искал, потом облегченно вздохнул и только после этого пересчитал скотину.
— Видно, они пришли воровать не коров и овец, не то спокойно забрали бы и их тоже, — продолжил Ало излагать свои соображения. – Они нацеливались на продукты и кое-что еще. Наверное, они сперва обчистили кладовую, а потом пробрались в комнату и стали шарить по углам, и именно в этот момент ребенок и заплакал. Те испугались, что сейчас все проснутся, и не нашли никакого другого выхода, как засунуть младенца в чан. Я уверен, именно так и было, и это дело рук только и только воров. Никто, кроме них, не способен на такой грех, и да пусть та же беда обрушится на их головы!
Некоторое время все стояли молча. Люди поразились услышанному, все были под сильным впечатлением, и каждый в душе не мог не согласиться с теми доводами, которые привел Ало. И действительно, кто еще, кроме воров, этих бессовестных наглецов и безбожников, способен на такой грех и подлость?
— Да будет проклят тот, кто это сделал! Чтоб не видать им добра и счастья, — обронила в сердцах одна женщина, проходя мимо группы мужчин.
— Да будет так! – вырвалось со вздохом у некоторых сельчан, а Ало, достав свой кисет, завернул папиросу, закурил и внимательно посмотрел на присутствующих, стараясь прочесть по их лицам, какое впечатление оставили на них его слова.
— Ты прав, Ало, — словно в ответ на этот немой вопрос прозвучал чей-то высокий мужской голос. – Да будет земля пухом праху твоего отца, ты, как всегда, прав и сказал всё как есть. Действительно, только воры и последние негодяи способны на такую подлость и всё для того, чтобы спасти свою шкуру. У кого еще поднимется рука засунуть невинное дитя вниз головой в чан с соленьем? Только у безбожников, а у воров, как известно, Бога нет. Взываю к тебе, Господи, накажи их по заслугам…
Толпа в негодовании загудела. Каждый высказывал свое мнение, но все согласились и сошлись на одном: Ало прав, и это дело рук только воров.
— И прекратите все эти сплетни и глупые разговоры, — снова подал свой голос тот же мужчина, один из почтенных старцев деревни. – Кое-что дошло и до моих ушей, и клянусь вам, все это выдумки и сплетни, которые не стоят и выведенного яйца. Человек не должен нести такую чушь, нельзя говорить то, чего не видел собственными глазами. И это прежде всего касается вас, женщины. Вы слышали, что я сказал? – Женщины слушали его с понурым и притихшим видом, а самые совестливые кивнули головой в знак согласия. – Ну, если так, с сегодняшнего же дня прекращайте все лишние разговоры и молитесь, чтобы Бог наказал виновных, — закончил старейшина свою речь.
Сплетни и пересуды постепенно стихли и исчезли, но сама история об этом недобром деле сохранилась и, переходя из уст в уста, дошла до наших дней. Плохие дела, дурные поступки не забываются, сколько бы ни прошло времени и сколько поколений бы ни сменилось. Они, как извечное зло, преследуют людей и не дают им покоя.
Ну а как же с Сывыком?
* * *
Воры, орудовавшие в ту ночь в доме Аджо, снова собрались вместе.
— Вы не забыли о том своем обещании? – обратился ко всем остальным самый старший вор.
— Нет, мы не забыли, — ответил за всех один из них. – Такое не забывается, и пока мы живы, всегда будем помнить то, что вытворил этот негодяй.
— Ну, если так, то время пришло, и мы должны выполнить данное нами слово.
Воры еще немного поговорили, обсудили между собой кое-что, потом незаметно разошлись по своим домам.
Прошло несколько дней. Вдруг деревню облетела весть, что Сывык найден убитым у самого края поля.
— Туда ему и дорога, — сказали сельчане. – У него столько грехов на совести, сколько людей по его вине остались голодными… Должен же был найтись кто-нибудь, кто наказал бы его за все тяжкие грехи.
И действительно, его тяжкий грех не остался безнаказанным. Но кроме тех воров никто так и не узнал, в чем заключался этот грех и за что наступила расплата.
ДЕТИ
ДЕТИ
Истории, о которых ниже пойдет речь, в свое время я слышал по отдельности. Но я счел нужным объединить все три и создать между ними взаимосвязь, для того чтобы они в качестве образца еще лучше помогли представить человеческую натуру в целом.
И потом – дело не в том, где и когда я слышал эти истории, а в том, что они вполне реальные, между ними есть внутренняя связь и одна дополняет другую.
* * *
В купе поезда нас было четверо: я и трое русских. Ехать нам было недалеко, и, как это обычно происходит, мы быстро познакомились, и между нами очень легко наладился контакт. Иван и Николай были уже в летах и, как выяснилось, в свое время участвовали в Великой Отечественной войне. Иван был очень худощав и, видно, чем-то тяжело болел. Николай, напротив, для своего возраста выглядел довольно хорошо: это был здоровый высокий мужчина с легкой походкой и очень быстрой речью, настолько быстрой, что зачастую недоговаривал окончания последних слов. Третий попутчик – Василий – был моложе всех, крепкого телосложения, словоохотлив, весельчак и немножко философ.
Это были душевные, беззлобные и разговорчивые люди, и мне повезло, что я с ними познакомился. Когда у тебя хорошие попутчики, ты не чувствуешь, как быстро летит время, особенно в поезде. Не знаю, как другие, но я совсем не люблю поезда: не можешь нормально ни поспать, ни отдохнуть, и время тащится так медленно, что кажется, не день прошел, а целый год. Днем, сидя у окна, еще можно себя чем-то отвлечь, но вот ночью не хватает никакого терпения: ворочаюсь с боку на бок и не могу уснуть до самого рассвета.
Но в этот раз все было совсем по-другому. Эти люди оказались такими хорошими попутчиками, что я даже не почувствовал, как пролетело время. Все трое рассказывали очень интересные истории, и я готов был слушать их до самого утра. Их шутки были такими остроумными и меткими, что мы покатывались со смеху. Одним словом, нам было что послушать, тем более что Иван и Николай как люди взрослые многое повидали в этой жизни: и хорошего, и плохого. Все рассказанное ими, в том числе и о войне, было как нельзя к месту, заслуживало внимания, и мы с Василием с готовностью становились слушателями очередной истории, интересной и поучительной.
* * *
Речь зашла о детях. Мы довольно долго обсуждали эту тему, каждый высказывал свое мнение, и только Иван молчал и не участвовал в общей беседе. Когда все разговоры об этом постепенно стихли, Иван кашлянул разок-другой, зажег папиросу и обратился к нам:
— Вот вы все сейчас обсуждали эту тему. Я обронил хоть слово?
Все дружно согласились, что нет.
— А как вы думаете, почему я молчу? – опять спросил он.
Мы в недоумении пожали плечами и посмотрели друг на друга. «Откуда мне знать, почему», — наверное, подумал каждый из нас.
— Значит, не знаете? – продолжал задавать он свой странный вопрос. – К сожалению, для этого есть причина, и сейчас я вам об этом расскажу.
Иван сделал небольшую паузу и посмотрел в окно.
— Во время войны меня тяжело ранило, — начал Иван свой рассказ. – Я лежал во многих госпиталях, и пока меня лечили, война закончилась. Врачи сказали, что у меня в груди остался осколок, но он в таком неудачном месте, что его лучше не тревожить. Они посоветовали мне возвращаться домой и при первом же приступе обратиться в больницу, может, к тому времени в медицине что-то изменится и удастся его благополучно извлечь.
Я вернулся домой. Прошли годы, и однажды я, нагнувшись за молотком, вдруг почувствовал резкую боль. «Может, это осколок дает о себе знать», — подумал я, но решил ничего не говорить жене: она, бедная, и без того была слаба здоровьем, так зачем нужно было еще больше ее расстраивать? Но когда супруги женаты давно, а мы были женаты не один десяток лет, им все понятно и без слов, и жена моя, конечно, почувствовала, что со мной что-то не то. «Иван, — сказала она, — завтра же иди к врачу…»
На следующий день я с большим трудом добрался до поликлиники. Доктора, выслушав мои жалобы и узнав, что у меня в груди осколок, осмотрели меня и сказали: «Нет, Иван Иванович, тут нужна операция».
Я очень расстроился, но не столько за себя, сколько за свою жену. «Как, — думал я, — она же совсем нездорова, и, не дай Бог, если со мной что-то случится, то что будет с ней?»
Именно так я и сказал врачам, и те немало удивились, что я в таком непростом положении еще и умудряюсь переживать за жену. «Если не я, то кто еще о ней подумает?» — сказал им я. «А что, у вас нет детей?» — спросили они. «Ну, почему же? Дети есть: сын и дочь. Дочь замужем и живет далеко, а вот сын… Он ведь женат, и откуда я знаю, может, невестка не захочет смотреть за свекровью?» Но как я ни возражал, переспорить врачей мне не удалось: они настаивали, чтобы я непременно лег в больницу.
У меня не оставалось другого выхода, как пойти с женой к сыну, который с семьей жил в соседней деревне. И тут, надо же, такое совпадение, прямо на дороге мы с ним столкнулись: он вместе со своей женой куда-то направлялись. Сын, завидев нас, виновато опустил голову (а он уже знал о том, что мне нужно лечь в больницу), а невестка, встав в воинственную позу, оглядела нас с ног до головы таким презрительным и недовольным взглядом, что мы с женой застыли как вкопанные. «Куда ты ведешь эту старуху? – повернулась она ко мне. – Разве у нас есть место, чтобы мы ее приютили? У нас нет лишней комнаты, ясно вам? Мы сами еле помещаемся, и только ее не хватало! Вы что, с ума сошли или нас за сумасшедших держите? Сейчас же поворачивайте обратно!» — резко сказала она и снова злобно нас оглядела.
Пока она говорила, мой сын стоял молча и не знал, куда девать глаза. Моя жена не сдержалась и расплакалась, а я от негодования хотел было наброситься на них с кулаками, но жена вцепилась мне в руку и потянула назад. «Ради Бога, — сказала она, — не связывайся с ними, тебе и так плохо! Лучше пойдем отсюда, мне нехорошо».
Мы вернулись домой. С того дня жена слегла и больше не встала. Я дал знать дочери, и она сразу же приехала. Невестке же моей было наплевать – живы мы или нет. А вот сын появился только тогда, когда ему понадобилось наследство. Представляете, я еще жив, а он уже захотел стать наследником! Не видать ему наследства как своих ушей! Все, что у меня есть, останется моей дочери!
Если бы вы знали, как мне тяжело… Я сам неграмотный, жена моя тоже ничего не заканчивала, но мы отказывали себе во всем, лишь бы сын учился и стал человеком. И что из этого вышло? Да, он получил образование, стал агрономом, мать еще радовалась тогда, что вот, мол, какого сына вырастили. А в итоге что получилось?
— А ты не подал на него жалобу? – спросил Николай. – Ведь даже в законах прописано, что как родители обязаны растить своих детей, так и дети обязаны опекать и обеспечивать своих престарелых родителей.
— Конечно, я написал об этом ему на работу, — со вздохом ответил Иван. – И как вы думаете, что мне ответили? Написали, что якобы администрация приняла решение вынести ему общественное порицание и лишить квартальной премии. Вот что я получил в ответ на мою жалобу.
Я считаю, что такие дети (будь то сын или дочь), которые так бесчеловечно обращаются со своими родителями, не достойны называться ни детьми, ни гражданами, ни людьми вообще. Те, которые не заботятся о своих родителях, очень легко могут продать все святое, в том числе и родину. И поэтому я не считаю его своим сыном, а вижу в нем только предателя, и мне стыдно, что я вырастил такого негодного человека. Это большое горе, большое наказание. Меня не мог одолеть кусочек железа вражеской пули, а вот это, рано или поздно, но точно сведет меня в могилу, я в этом уверен.
* * *
Иван закончил свой рассказ и замолк. Потом вытащил из кармана платок и вытер вспотевший лоб. Мы все трое были под впечатлением услышанного и тоже молчали.
— Да, такие дети тоже есть, — первым нарушил тишину Василий и тяжело вздохнул. – Но, слава Богу, есть и другие, которые, хоть и не приходятся никакой родней, но относятся к взрослым людям благородно, искренне и честно, не так ли? – повернулся к нам Василий, словно ища нашей поддержки.
— Конечно, — ответили в один голос мы с Николаем. Иван же промолчал, и было видно, что он все еще никак не может успокоиться и снова испытывает боль от потревоженных старых душевных ран.
— На нашей улице жила одна учительница, — начал Василий свой рассказ. – Она была уже на пенсии и одна, без мужа, воспитывала единственного сына. Он окончил школу с золотой медалью и поступил в университет. Этого парня любили все – от товарищей до преподавателей. Он был первым студентом на курсе, прекрасно учился, и никто не сомневался в том, что у него прекрасное будущее. Но случилось большое несчастье: на пятом курсе, будучи с друзьями в экспедиции, он сорвался со скалы и погиб. Мать осталась совсем одна и чуть с ума не сошла от горя. Как вы понимаете, ей не хотелось жить, и его товарищи, видя ее состояние, проявили такую чуткость и понимание, на которые способны, к сожалению, не все люди. Они стали делать всё, чтобы не оставлять ее одну ни на минуту наедине с ее горем. Особенно в первое время они буквально сменяли друг друга и постоянно были рядом, чтобы хоть немного смягчить боль утраты и помочь ей справиться со страшным ощущением одиночества.
С тех времен прошло немало лет. И, представьте себе, они так и не забыли о бедной женщине и продолжают относиться к ней с прежней заботой и тем же вниманием, как и в тот тяжелейший для нее период. Правда, многие из них уже обзавелись семьями, но о своем товарищеском долге не забывают. Они очень часто навещают ее, помогают в бытовых вопросах, каждый год собираются у нее и отмечают ее и сына дни рождения, приглашают ее на свои семейные праздники или просто в гости… Сейчас ей почти восемьдесят, она плохо видит и вообще нездорова. И опять-таки товарищи ее сына не забывают о ней и относятся к ней по-прежнему бережно и заботливо. И я уверен, что они проводят ее в последний путь ничем не хуже, чем родные дети.
Вот, мои дорогие, так тоже бывает. Мир красен такими людьми, и это именно та категория, которая, как говорят восточные мудрецы, несет на своих плечах всю тяжесть этого мира, а не становится ярмом на шее человечества. Не будь их, не было бы смысла жизни вообще. И мы должны быть только благодарны Всевышнему, что такие люди все-таки есть и их много. А подобных твоему сыну, Иван, мало, и таких не часто встретишь. Ты прости меня, Иван, за прямоту, но такие люди просто несчастны, потому что самое большое счастье – это когда человек кому-то нужен, когда любит и уважает своих родителей, доволен своими поступками и живет в ладу со своей совестью, чего никак нельзя сказать о твоем негодном сыне. Но разве в пшеничном поле нет сорняков? Вот и товарищи погибшего сына той женщины – они и есть те самые здоровые колосья пшеницы, которая кормит людей, а такие, как твой сын, — сорняки и приносят другим одну только горечь. По сравнению с горьким сладкое кажется еще более сладким… Да я тут целую философскую теорию развел, правда? – закончил свою речь шуткой наш Василий. – А что делать? У меня такая натура, что когда я волнуюсь или нервничаю, то обычно или пускаюсь в философию, или затеваю драку. Так не лучше ли заняться философией, тем более что, к счастью, в нашем купе нет таких людей, с кем тянуло бы поссориться?
Правда, последними словами Василий явно хотел нас расшевелить и рассмешить, но никто из нас не улыбнулся. Не знаю, как те двое, но я думал над обеими историями и невольно их сравнивал. Некоторое время мы ехали молча, и только был слышен монотонный стук колес нашего поезда, мчавшегося по железной дороге.
* * *
— Что и говорить, родительский долг перед детьми просто безграничен, — донесся до нас голос Николая. – А в образе матери, я считаю, вообще есть что-то мистическое, которое не поддается никакому объяснению. Я сейчас вам расскажу одну историю, причем настолько невероятную, что не укладывается в голове. Но я готов вам поклясться, что это чистая правда, потому что все это произошло лично со мной.
— Я никогда не видел свою мать, — начал Николай свой рассказ, — ни вживую, потому что мне было всего шесть месяцев, когда она умерла, ни даже на фотографии, потому что она ни разу в жизни не фотографировалась. И только по рассказам близких я примерно представлял себе, как она выглядела. По их словам, она была очень доброй женщиной.
Моя жизнь началась с трудностей. Как говорится, хороший день с утра хорош, а мое утро не было таким уж светлым. Я был сиротой и вырос в приюте. Потом началась война, которая принесла нашему народу столько горя и боли. Люди шли воевать на фронт, и я решил, что чем я хуже, и добровольцем ушел на войну. Воевал как мог и чуть не погиб, но судьба распорядилась по-своему, и, как видите, я остался жив. Не знаю, так было угодно Богу или этого не допустила душа моей матери, короче говоря, я не погиб и остался жив. Это произошло зимой, на Ленинградском фронте.
После мощной атаки нам удалось отбить у немцев небольшой городок, и наш полк продвинулся вперед. У фашистов был план остановить нас и помешать наступлению, а нам была необходима передышка, чтобы перегруппироваться и собраться с силами. Наш взвод сделал привал в таком месте, где со всех четырех сторон были леса и замерзшие болота. Командование выставило караульных. Стоял лютый мороз, но мы, измученные и выбившиеся из сил после напряженного боя, который продолжался весь день, легли прямо на снег и тут же уснули. Заснул и я и увидел во сне свою маму. Она будто бы идет в мою сторону, вся такая красивая, высокая, с черной шалью, накинутой на плечи, и во сне я знаю, что это она, моя мама, и растерялся, смотрю на нее, и будто я еще ребенок и хочу, чтобы она была рядом. Но как будто ей что-то не дает покоя, она чем-то сильно встревожена. Я хочу пойти к ней, но не могу сдвинуться с места. Она видит это и сама подходит ко мне, стоит надо мной и что-то говорит, но я не слышу. Тогда она наклоняется надо мной и тихо говорит мне на ухо: «Коля, вставай…» Но мне неохота вставать, и она снова мне говорит: «Коля, сынок, вставай…» Я открыл глаза, оглянулся и с ужасом увидел страшную картину: со стороны немцев к нам по снегу ползли несколько силуэтов. Я схватил автомат и выпустил в них целую очередь. Поднялась тревога. Позже стало известно, что это были вражеские разведчики, примерно двадцать человек, которые с оружием вплотную приблизились к нашему лагерю. Мы перебили их всех до единого, и когда все успокоилось, стало известно, что, оказывается, наши караульные заснули и, естественно, не заметили приближения врага.
Получается так, что если бы не мой сон, то фашисты уничтожили бы нас всех. И когда солдаты узнали, какой я видел сон и как я проснулся, все были поражены и высказали одну и ту же мысль: мне помогла сила материнского молока, которое я пил в младенчестве, и благодаря ему спасся не только я, но и весь наш взвод.
— Правда, — сказал мне как-то один старик, и я по сей день не могу забыть его слова, — ты пил материнское молоко только шесть месяцев, но это – материнское молоко, и именно оно спасло тебя от гибели. Вот увидишь, ты проживешь долгую жизнь.
— Ну, вы видите сами, — сказал Николай с лукавой улыбкой, — какой я, слава Богу, крепкий. Ведь никто не скажет, что мне почти семьдесят. Я уже давно стал дедушкой, мало того, у меня и правнуки пошли. Но я никогда не забываю свою маму, и стоит мне вспомнить ее образ, как я снова ощущаю себя совсем маленьким и у нее на руках.
Вот это и есть тот удивительный случай, о котором я хотел вам рассказать, и вот почему я сказал, что в образе матери есть что-то мистическое. Конечно, я рассказывал об этом многим людям. Были среди них и такие, которые легкомысленно смеялись над моим рассказом. Но умные и рассудительные люди сказали мне, что я, видимо, спал очень чутко и поэтому, услышав скрип снега, сразу проснулся.
— А насчет матери? – спросил Василий. – Ведь ты ее никогда не видел, не считая, конечно, того времени, когда был младенцем. А тот ее голос, который звал тебя и заставлял встать, что это было?
— А это уже трудно объяснить, — отозвался Николай. – Вы не поверите, но я спрашивал об этом даже у психологов. Некоторые сказали, что ее голос остался где-то у меня в подсознании, а некоторые придерживались того мнения, что в трудные минуты людям снятся их самые близкие, которые говорят им такое, что не дает покоя. И потом, говорили еще, что меня обуял инстинкт самосохранения – и от врагов, и от холода. Короче говоря, и меня толком не удовлетворили их толкования. Только клянусь вам, что эта история – чистая правда, хотите – верьте, хотите – нет. Я уверен, что тайна материнской любви не поддается объяснению, ведь сердце матери – это самая большая в мире загадка, и никому еще не удавалось разгадать ее и объяснить. И я завидую тому человеку, который хоть на самую малость смог бы выполнить долг перед матерью и материнским сердцем. Мне кажется, что такие люди самые счастливые на свете…
Уже наступило утро, и наш поезд доехал до места. Мы спустились на платформу, тепло попрощались друг с другом, и каждый пошел в свою сторону.
КОМУ ВЫРАЗИЛИ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ?
КОМУ ВЫРАЗИЛИ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ?
Осман был еще совсем молод, когда жена его умерла, и все заботы о двух малолетних детях – сыне Усе и дочери Латифе – легли на его плечи. Ну, а семья без женщины что дом без стен. Каково мужчине поднимать малых детей одному? Кое-как, с большим трудом, но Осман покорно тянул эту ношу, и как ни уговаривали его родственники и близкие, он и слышать не хотел о женитьбе.
— Зачем мне новая женщина в доме? Приведу ее, чтобы она, чуть что, на моих детей руку поднимала? – говорил Осман. – Нет уж, я так не хочу. Ну, не повезло мне в этой жизни, что поделаешь. Такова, видно, моя судьба. Пусть лучше я буду мучиться, но чтобы мои Усе и Латифа никогда не узнали, что такое мачеха.
А трудностей действительно было много, и Осман всего себя отдал воспитанию детей. Он был для них и отцом, и матерью, и с немалыми трудностями, совсем один, мыкаясь и жертвуя собой, но все же вырастил детей и поставил их на ноги. К сыну Усе он был особенно внимателен: лучший кусок отдавал ему, одевал хорошо, исполнял все прихоти, одним словом, баловал мальчика, и тот вырос избалованным и капризным.
Дочь Латифа, сама еще ребенок, довольно рано стала маленькой хозяюшкой, на плечи которой легла большая часть домашней работы. Правда, отец помогал ей, учил, что и как делать по дому, и она постепенно научилась вести хозяйство не хуже, чем любая другая семейная женщина.
Дочь росла, взрослела, и незаметно подошло время выдавать ее замуж. К ним зачастили сваты, но Осман всех отправлял обратно.
— Пока не женю Усе и не приведу в дом невестку, дочь замуж не выдам, — все время говорил Осман родне потенциальных женихов.
Но Сабри оказался самым настойчивым из всех. Он непременно хотел женить своего сына на Латифе, и после многочисленных его приходов Осман, наконец, дал ему долгожданное обещание:
— Как только приведу в дом невестку, добро пожаловать, приходи и обручи Латифу. Я согласен.
Усе подрос, возмужал, и Осман его женил. Ну, понятное дело – единственный сын, свадьбу сыграли пышную, и когда все было позади, только тогда Осман разрешил Сабри прийти и обручить Латифу. Через несколько месяцев даф, раздавшийся в доме Сабри, пришел к дверям Османа и увел Латифу в новую семью.
Надо сказать, что муж Латифы был из той же деревни, и она продолжала заботиться об отце и быть к нему такой же внимательной, хотя в этом не было острой необходимости: Осман был еще довольно крепок и оказывал сыну в хозяйстве ощутимую помощь. К тому же, говоря по совести, невестка попалась хорошая – заботливая, чуткая, добрая и относилась к свекру как к родному отцу. Лишь один Усе время от времени высказывал насчет отца недовольство, правда, не в его присутствии.
— Нам и так тесно, а еще и отец у нас, — говорил он жене. – Даже не знаю, как нам быть.
— Как тебе не стыдно? – возмущалась в ответ жена. – Мы ведь его не выгоним!
— Я же не говорю, чтобы мы его выгнали! Я просто говорю, что нам тесно, да и с деньгами туговато, — раздраженно отвечал Усе.
Годы шли, сменяя друг друга. Осман старел и уже не мог так легко справляться с привычной работой по хозяйству, как раньше. Оно и понятно – время брало свое, и рука, огрубевшая от постоянной работы, теперь больше пристрастилась к четкам.
Османа вместе с несколькими мужчинами его возраста можно было часто увидеть в деревне. Они усаживались вдоль какой-нибудь стены и, греясь под солнцем, вспоминали минувшие дни.
К тому времени у Усе было уже несколько детей, и жили они хорошо. Недавно он построил себе новый дом, где было несколько комнат, обставил все хорошей мебелью, а старый дом сделал сараем, где хранил фураж для домашней скотины.
Чем дальше, тем больше Усе тяготился присутствием отца в доме, часто грубил ему и делал все, чтобы тот не попадался ему на глаза. Во время обеда или ужина Усе, опустив голову, старался не смотреть в его сторону, ел молча и старался поскорее выйти из-за стола. Осман же делал вид, что ничего не замечает, и, как прежде, был очень ласков с сыном. Это бесило Усе еще больше, и он искал любой предлог, чтобы придраться к отцу. Скажем, в дождливые дни Осман возвращался домой. Еще у порога он снимал запачканную обувь, переобувался в домашние тапочки и только после этого заходил в дом. Так Усе придирался даже к этому и каждый раз раздраженно говорил жене:
— Ну вот, опять отец в грязной обуви пришел домой и расхаживает в ней по этим чистым полам. Сколько это может продолжаться? Мне ведь за тебя обидно. На сколько частей тебе разрываться: за детьми смотреть, хозяйство вести или бегать за ним и вытирать там, где он наследил? Так же нельзя, в конце концов!
— Ну, что ты такое говоришь? – возмущалась жена в ответ. – Когда бедный отец в грязной обуви заходил в дом? Неужели ты не видишь, как прежде чем войти, он сначала переобувается в домашние тапочки и только потом заходит? Перестань придираться. И не надо так печься обо мне, это мои обязанности, я их выполняю, и не надо лишних разговоров. А то знаешь, как получается? Говорят, одному захотелось съесть мясо своего осла, так он сказал: уши моего осла похожи на заячьи уши. Точь-в-точь как у тебя: хочешь выгнать отца из дома, потому и придираешься.
Такие споры между мужем и женой часто доходили до крупных ссор, но Усе по-прежнему был настроен враждебно и даже агрессивно. Иногда он нарочно повышал голос, чтобы отец слышал каждое сказанное им слово. И отец все слышал, но не мог ничего поделать. Бедный старик попал между двух огней: уйти из дома и жить отдельно ему не позволял возраст, а если даже и ушел бы, то единственный сын опозорился бы перед всей деревней. Люди однозначно осудили и непременно сказали бы: и как, мол, совесть позволила ему выгнать старого отца из дома? Вот так, при всем своем непростом положении, Осман продолжал печься о репутации сына и не хотел навлекать на него лишние разговоры.
А как любил он своего внука Атара! Он видел в нем маленького себя и просто не представлял свою жизнь без общения с ним. Каждый раз, когда дедушка возвращался после прогулок по деревне, Атар бежал ему навстречу. Обняв и поцеловав внука, Осман брал его за руку, и они вместе шли домой. С каждой своей пенсии Осман, прежде чем отдать деньги невестке, откладывал небольшую сумму и на нее покупал в деревенском магазине сладости для любимого внука.
По вечерам Атар не отходил от дедушки и часто просил рассказать ему сказку. Чего-чего, а их Осман знал великое множество, и без долгих уговоров каждый вечер рассказывал внуку новую сказку. А когда приходило время сна, Атар непременно ложился спать с дедушкой, и, не обняв его за шею, малыш не мог уснуть.
Характером Атар пошел в мать и дедушку. Это был спокойный, умный и совсем недрачливый мальчик. В отличие от большинства детей, он никогда и ничего не портил и не ломал: ни своих игрушек, ни домашних вещей. Осман очень его любил, и чем больше была любовь дедушки к внуку, тем сильнее была ненависть Усе к сыну. Очень часто назло отцу Усе поколачивал Атара, и тот со слезами бежал к дедушке, кидался ему на грудь и только там находил убежище и утешение.
Невестке тоже приходилось нелегко. Муж все время злился, ругался с ней, часто избивал, одним словом, делал все для того, чтобы дома постоянно были скандалы, неприятности и отец, устав от всего этого, сам встал бы и ушел.
Но старый Осман все глотал и надеялся, что сын скоро одумается, поймет свою ошибку и все наладится. Ведь не чужой он был ему, а как-никак родной сын, и не так просто взять и уйти от родной кровинушки, какой бы она ни была.
В то же время он понимал, что положение, в котором он оказался, просто ужасное. При такой тяжелой обстановке с язвительными намеками, упреками и каждодневными скандалами кусок не лез в горло. Осман знал, что все это из-за него, очень переживал, не находил себе места, но никому, даже Латифе, ничего не рассказывал и тем более не жаловался.
Как бы ни была внимательна к нему невестка, какой бы ни окружала заботой, на сердце у Османа был тяжелый камень. Правда, не желая расстраивать невестку, которая старалась успокоить свекра и убеждала, что все это временно, Осман старался делать вид, что не придает большого значения выходкам сына, но на самом деле испытывал страшные душевные муки. Ему ничего не оставалось делать, как терпеть и ждать, чем это все закончится.
Как-то раз Усе пораньше вернулся домой и сказал жене:
— Давай, накрывай на стол, мы с отцом будем ужинать.
Осман поразился: вот уже несколько месяцев, как Усе не садился с ним за один стол, и вдруг такая перемена. С чего бы это? В душе что-то екнуло, и появилась маленькая надежда: «Может, наконец одумался?» — подумал отец.
Невестка накрыла на стол, и они сели ужинать. Усе, не поднимая головы, ел молча и сосредоточенно. Осман протянул руку за хлебом, но неосторожно локтем задел чашку с чаем. Чашка опрокинулась, и чай вылился на стол.
Усе вышел из себя и стал кричать на отца:
— Да не разрушится твой дом, ты же не маленький ребенок, что проливаешь на себя обед! Ну, надо же, такой дорогой импортный стол, такую хорошую скатерть испортил!.. Не даешь спокойно кусок хлеба съесть, только поганишь весь ужин…
Бедному Осману стало не по себе. Он опустил голову и смог выдавить из себя только эти слова:
— Я же не нарочно, сынок… Случайно так получилось…
На крики мужа прибежала жена, взяла тряпку и быстро вытерла стол.
— Почисть как следует! – прикрикнул на нее Усе. – Такой стол испортила!
— Ну, что ты устраиваешь опять? Да наплевать, что вылилось, — разозлилась жена. – Как тебе не стыдно говорить такое? Ты прости, отец, за резкие слова, но начихать на это! Не убиваться же из-за этого! Господи, да что же это за ужас свалился нам на голову!..
— Ах, это еще вам на голову, да? – окончательно вышел из себя Усе. – Я тут работаю, надрываюсь, чего только ни делаю, а вы сидите дома, палец о палец не ударяете и только требуете: неси, неси, неси… Вы все висите у меня на шее, и я не могу кормить столько лишних ртов. Отец, хватит, я больше не могу тебя смотреть. Деньги у тебя есть, ты получаешь пенсию, так вот, иди и живи в нашем сарае и там уже что хочешь делай. Я не обязан содержать тебя всю свою жизнь, — одним махом выложил Усе отцу.
— Молодец, сынок, так ты отдаешь сыновний долг, — дрожащим голосом сказал старый Осман. – Только зачем нужны были все эти скандалы, крики и придирки? Ты бы сразу сказал, и я бы ушел. Я не останусь, я уйду, прямо сейчас встану и уйду, лишь бы вам жилось спокойно…
Осман поднялся с места, и невестка с криками бросилась ему в ноги.
— Нет, доченька, я еще не растерял свою честь и самолюбие, — ответил на ее уговоры старик. – Человек открыто мне сказал «уходи», и если я хоть немного себя уважаю, то не должен здесь оставаться.
— Отец, умоляю, ради Бога, останься хотя бы на ночь, подожди до утра, а там посмотрим, что будет, — чуть не плача сказала невестка. Потом в бешенстве повернулась к мужу: — Чтоб ты провалился, чтоб тебе пусто было! Если со своим отцом ты так, то что уже о нас говорить…
Маленький Атар с плачем кинулся на шею дедушке, крепко вцепился в него и не отпускал. У Османа тоже на глаза навернулись слезы, и в горле застрял ком, который мешал дышать. Усе же с безучастным видом смотрел в сторону, как будто ничего не случилось.
Невестка и внук так и не пустили, чтобы старый Осман в тот вечер ушел из дома. Но всю ночь бедный старик так и не сомкнул глаз.
На следующее утро как ни уговаривала его невестка остаться, Осман не согласился. Он взял свою постель, кое-что из вещей и, стараясь, чтобы никто из соседей не заметил, перебрался в сарай. Невестка тоже пришла туда, все убрала, очистила от пыли и грязи, постелила ему постель и с плачем вышла. Маленький Атар, как только проснулся, спросил, где дедушка, и, узнав, что тот уже ушел в сарай, сразу побежал туда. Осман посадил внука себе на колени, стал гладить его по голове и, не выдержав, горько заплакал.
Очень скоро о случившемся узнала Латифа и, как разъяренная медведица, кинулась к брату. Разразился страшный скандал. Чего только ни сказали друг другу брат с сестрой, как только ни бранились, все напрасно – Усе и слышать не хотел о том, чтобы вернуть отца обратно.
— Я возьму его к себе, — пригрозила Латифа. – И будем считать, что его сын умер.
Но отец наотрез отказался перебираться к дочери.
— Что ты, лао, твой муж – сын чужих людей, — сказал дочери Осман, когда та пришла к нему. – Если мой родной сын отвернулся от своего отца и в таком возрасте выгнал его из дома, то откуда я знаю, как поведет себя твой муж и захочет ли, чтобы я жил с вами?
— Ну, что ты такое говоришь, отец, — взмолилась Латифа. – Да разве он будет против?
— Нет, доченька, я не приду. Что люди-то скажут? Они скажут: сына своего оставил и пошел жить к зятю. Нет, лао, я так не могу. Слава Богу, я получаю пенсию, невестка ко мне внимательна, ты тоже будешь приходить навещать меня и в случае чего тоже поможешь. Только прошу тебя, не поднимай шум, пожалуйста, пусть никто не знает, не то опозоримся перед людьми, стыдно ведь…
И отец с трудом спровадил дочь.
Итак, Осман остался жить в старом сарае. Дочь и невестка были к старику очень внимательны. Латифе было стыдно рассказать своему мужу о случившемся, но, тем не менее, она всегда находила время для отца и часто приходила навещать его. Она непременно приносила с собой горячий обед, продукты, иногда сладости и как могла, окружила старого отца заботой. Так же и невестка: стараясь, чтобы муж не узнал, она кормила свекра, обстирывала его и приводила жилище в порядок. Ну а маленький Атар вообще не отходил от дедушки ни на шаг.
Казалось бы, в доме Усе наконец настал покой. Он больше не скандалил, не шумел, ни к чему не придирался, но отношение жены и сына к нему сильно изменилось… Они оба не хотели его видеть. Жена не смотрела в его сторону, отвечала нехотя и всегда старалась под каким-нибудь предлогом уйти в другую комнату. Атар – тот и вовсе возненавидел отца и часто смотрел на него угрюмо и исподлобья.
С того самого дня ноги Латифы не было в доме у брата, и они перестали разговаривать.
Осман всячески старался, чтобы люди ни о чем не узнали, но разве такое скроешь? Ну, день-два еще можно утаить, но долго не получится: все равно люди начинают что-то замечать, о чем-то догадываться и в конце концов узнают, что случилось. Так и произошло в случае с Османом: соседи, другие односельчане смекнули, в чем дело, и по деревне пошли разговоры. Иногда намеки доходили и до Османа, и бедный старик, расстраиваясь, стыдился своего нерадивого сына.
О том, что Усе выгнал отца из дома, узнал и муж Латифы. Вернувшись домой, он рассказал ей об этих разговорах и, пораженный ее ответом, как следует отругал жену.
— А что я могла сделать? – стала оправдываться Латифа в ответ на упреки мужа, почему до сих пор она оставила отца в сарае не привела его домой. – Сколько раз говорила ему, упрашивала, но без толку, не идет он к нам, и все! Чтоб Усе поперек горла встало все, что сделал для него отец!
После этого Латифа с мужем несколько раз приходили к Осману и упрашивали его переселиться к ним, но тот ни в какую не соглашался. К сыну он тоже не ходил, хоть сарай тот и был рядом с домом. Если ему что-то бывало нужно, он подходил к дверям, звал невестку и там, у порога, передавал ей свою просьбу.
Прошло немало времени с того дня, как старый Осман ушел жить в старый сарай, но ни разу Усе не пришел, не навестил отца и вообще не поинтересовался – жив ли тот или нет.
Хорошо, что была весна и на дворе стояла хорошая погода. А если бы была зима, холода, что тогда? Даже страшно было подумать, что стало бы с бедным стариком в этом пустом сарае…
Что и говорить, Осман чувствовал себя опустошенным и одиноким. Причем днем еще не так было тяжело, как ночью: он мог выходить в деревню, общаться с мужчинами своего возраста и хоть немного, но все же отвлекался. Но самое тяжелое в душевном плане начиналось вечером и особенно ночью. Удручающе на него действовал весь вид его жалкого жилища, и казалось, что даже стены на глазах сужаются и готовы раздавить его. Осман не выдерживал, гасил лампу и ложился. Но лечь в постель еще не означало уснуть, и бедный старик, погруженный в невеселые мысли, часто не мог сомкнуть глаз до самого утра. Иногда к нему прибегал Атар, и тогда Осман забывал все свои переживания и был счастлив в обществе внука. Правда, Усе запрещал сыну общаться с дедом, но мальчик все равно приходил и всегда делал это тайком от отца.
Так и проходили один за другим его дни. Осман был уже не тот, что раньше. Он стал сутулиться, походка была уже не такой твердой и уверенной, ухудшилось зрение. Память тоже стала сильно подводить: часто забывал, куда положил какую-нибудь вещь, и тратил на поиски много времени. Все время грустный, подавленный и с вечно опущенной головой, он поневоле давал пищу для разговоров, и пару раз кто-то из сельчан в порыве возмущения начинал прямо при Османе осуждать его сына. Но отцу это не нравилось, и каждый раз он сразу обрывал все разговоры:
— Кто сказал, что Усе выгнал меня из дома? – недовольно говорил он, обращаясь к присутствующим. – Я сам ушел, потому что семья у них, слава Богу, большая, и им тесно. И я прошу больше об этом не говорить. Все совсем не так, как вам кажется.
Щепетильный Осман очень болезненно воспринимал то, как отзываются о его сыне люди. Несмотря ни на что, ему не хотелось, чтобы про Усе было сказано хоть одно худое слово, и если разговор вдруг начинал приобретать неприятный для него оборот, он молча вставал и уходил. Так было несколько раз, и те, с кем он общался, наконец осознали всю глубину переживаний отца и, щадя его чувства, перестали об этом заводить речь.
Но даже в таком состоянии, чувствуя себя забытым и ненужным родному сыну, Осман продолжал ему помогать и делал все, что было в его силах. Так, он собирал скошенное вокруг дома сено, подбирал упавшие по пути снопы и добавлял в общий стог, если во дворе забывали и оставляли какой-нибудь инструмент, нужный в хозяйстве, забирал его, приносил к дому и, позвав невестку, отдавал ей. Одним словом, помогал, чем мог, и, как бы убеждая самого себя, говорил: «Что поделаешь, семья большая, забот много, разве за всем уследишь?».
Настала осень. Дни стали короче, а ночи длиннее. Вместе с днями укоротилось и время, которое Осман мог уделить своему досугу, а с длинными ночами растянулась и та тоскливая полоса, во время которой он погружался в тягостные мысли и переживания. Солнце уже так не грело, в сарае было холодно, и Осман, все реже появлявшийся в деревне, выходил из своего жилища только для того, чтобы немного погреться. Он усаживался на камень возле стены и поворачивался к солнцу, но осенние лучи уже не радовали глаз и тем более не могли согреть его слабеющий организм. Нездоровье и недомогания все больше давали о себе знать, и не было ни дня, чтобы у Османа ничего не болело.
В один день Осман тяжело заболел. Когда невестка, как обычно, утром пришла в сарай и увидела, что свекор еще лежит в постели и в каком он состоянии, раздался ее крик:
— Да стану я тебе жертвой, отец, что с тобой? Может, ты заболел?
— Да, доченька, мне нехорошо… Все тело так болит, как будто меня избили, — ответил Осман, а самого била такая дрожь, что стучали зубы.
Невестка кинулась к примусу, зажгла его, поставила чайник, и пока тот закипел, побежала домой и принесла завтрак. Но больной ни к чему не притронулся и только выпил чашку горячего чая.
Как ни уговаривала невестка Османа пойти в дом и там лечь в нормальную постель, он не согласился.
— Нет, лао! Я не пойду. И не будем об этом спорить.
Кровати как таковой в сарае не было, и Осман спал прямо на полу, поэтому и замерз. В доме была одна старая кровать, но в свое время он не пустил, чтобы ее перенесли туда, и теперь невестка, не слушая никакие возражения свекра, сама притащила эту кровать в сарай, постелила постель и насильно уложила в нее старика.
— Дай Бог тебе здоровья, доченька, — сказал он невестке. – Наконец мои косточки немного согрелись.
О том, что отец заболел, дали знать Латифе, и она тут же примчалась вместе с мужем.
— Папочка, да стану я тебе жертвой, где у тебя болит? – вскричала она, как только переступила порог, и кинулась к отцу.
— Мне трудно дышать… Я замерз и сильно простудился, — с трудом ответил Осман.
Латифа с мужем, не слушая никаких возражений Османа, взяли его к себе домой. Там ему постелили в большой комнате, уложили в теплую постель, затопили печку. Комната хорошо нагрелась, больной даже вспотел, но легче ему не стало.
Атар с утра до вечера не выходил из дома тети и ни на шаг не отходил от постели больного дедушки. В течение дня невестка несколько раз приходила навестить свекра, но Усе и думать позабыл, что у него есть отец. Вот уже целый месяц, как Осман болел и жил у зятя и дочери, а сын ни разу там не появился, и никакие упреки жены, уговоры и увещевания на него не действовали.
— Не пойду туда и все! – отвечал Усе жене. – Ты думаешь, я забыл все те гадости, которые сестра мне говорила?
Дело дошло до того, что пристыдить Усе за такое отношение к больному отцу пытались даже соседи. Но в ответ он лишь ехидно огрызался:
— А никто его из дома не выгонял, — говорил он, нагло глядя в глаза односельчанам. – У него что, дома своего нет, сына нет, что пошел к зятю и живет там?
«Пусть лучше такого сына не будет», — говорили вслед ему люди и качали головой.
Весть о болезни Османа никого из сельчан не оставила равнодушным. Люди приходили навестить его, и дом Латифы всегда был полон народу: одни уходили, а другие приходили.
Осман постепенно угасал и уже не мог бороться с болезнью, сковавшей его тело. К физическим недомоганиям прибавлялись огромные душевные муки – он сильно переживал, что в таком положении находится не у себя дома, а у зятя. Из-за болезни и гнетущих мыслей от бедного Османа остались лишь кожа да кости. Дочь не отходила от его постели, зять тоже всегда был рядом и готов был исполнить любое желание тестя, но… Осман ждал сына и надеялся, что тот придет.
Больному становилось все хуже и хуже. Единственным, кого он ждал всегда с нетерпением, был маленький Атар, присутствие которого, казалось, помогало Осману утолить свою тоску по сыну.
В день, когда больному стал особенно плохо, дочь со слезами на глазах спросила его:
— Отец, у тебя есть для меня какие-нибудь наказы?..
— Ну, какие у меня могут быть наказы, доченька… — еле проговорил Осман. – Заботьтесь друг о друге, будьте дружны… Прошу тебя, не забывай об Усе… У него малые дети…
Перед самой смертью Осман захотел увидеть сына. Пока за ним послали, пока тот пришел, отец потерял сознание. Когда Усе вошел, веки больного поднялись, и он, застыв и не отрывая взгляда, долго смотрел на него. Так, глядя на сына, Осман и ушел в другой мир.
Латифа и невестка искренне и горько оплакивали отца и свекра. Маленький Атар сидел рядом с телом дедушки и безутешно рыдал. В доме Латифы набралось полно народу, и пришли не только их сельчане, но и люди из соседних деревень. Османа знали и уважали очень многие, и позорный поступок сына еще больше усугублял и без того накаленную атмосферу, царившую на этих похоронах. Никто из присутствующих не то что с ним не разговаривал – никто и смотреть не хотел в его сторону, и он, съежившись от стыда и опустив голову, забился в дальний угол.
В скорбных песнях, которые пели женщины в честь усопшего, нет-нет да и проскальзывали открытые упреки в адрес нерадивого сына. Это еще больше распаляло собравшийся народ, который еле сдерживался, чтобы не выгнать Усе из дома. Но, глядя на покойника и на то, как безутешны дочь и невестка, люди глотали свой гнев и во имя светлой памяти Османа не решались давать волю чувствам.
— Говорят, Осман при смерти позвал сына. Но тот вроде бы не успел застать отца живым…
— Эх, да накажет Бог такого сына…
— Ну, разве он человек?..
— Просто уму непостижимо: иметь свой дом, иметь родного сына и умереть у чужих людей…
— Не лучше ли было, чтобы вместо него умер сын?
— Но какие все же молодцы его дочь и зять. Сполна исполнили свой человеческий долг… Ну, а как смотрели они за ним…
— Ну, конечно, брат. Что ни говори, а близкие и родные остаются близкими и родными, не то что этот подлец… Чтоб ты сдох, негодяй… Глаза б мои тебя не видели…
Вот такие разговоры и слышались отовсюду, и не было ни одного, кто не бросал бы в сторону Усе гневных и испепеляющих взглядов. Не в силах выдержать лавину людского осуждения, Усе время от времени выходил из дома и старался податься туда, где было не очень много народу.
— Папочка, папочка, потерявший сына папочка… — время от времени голосила Латифа и принималась бить себя по голове. Сидевшим рядом женщинам еле удавалось удерживать ее за руки, и если бы не это, то обезумевшая дочь в горестном исступлении исцарапала бы себе в кровь все лицо.
Османа похоронили. Один из престарелых односельчан по имени Аслан, встав у входа на кладбище, громко сказал, обращаясь к собравшимся:
— Народ, я прошу минутку внимания и тишины, мне надо кое-что вам сказать. Если я не выскажусь, нам всем перед этой свежей могилой будет стыдно.
Да будет земля пухом брату Осману, да упокоится его душа, его среди нас уже нет. Правда, он был уже немолод, но все же ушел слишком рано и не при тех обстоятельствах, которых был достоин. И сегодня мы скорбим не из-за того, что он умер, а из-за того, в каких условиях он оставил этот мир. Мы все знаем, очень хорошо знаем, какую нелегкую жизнь он прожил. И у меня щемит сердце, что за эти несколько последних месяцев ему пришлось испытать столько горя и боли. Ну, вы все прекрасно знаете, человеком какой чести и достоинства был Осман, какой чести… — и Аслан, у которого перехватило в горле, немного помолчал и, еле справившись с волнением, продолжил: — Нам всем хорошо известно, как в последнее время с ним обходился его сын. И, тем не менее, несмотря на это, он не позволил себе ни одного лишнего слова. Да, брат Осман, да ослепнут мои глаза, что за роковая судьба тебя постигла?..
То, о чем я хочу сейчас сказать, может быть, некоторым не понравится, но это будет по-божески, справедливо и по-людски. Правда, по нашим обычаям, как вы знаете, в таких случаях принято выражать соболезнование только сыну, но, по моему мнению, сегодня сын Османа умер вместе с ним, и с ним прервался его род. Поэтому я прошу собравшийся народ выразить соболезнование только его дочери и зятю, потому что других близких родных у Османа нет.
Аслан закончил свою речь. Люди, все как один, по очереди стали подходить к Латифе и ее мужу и выражать свое соболезнование. Никто к Усе не подошел, да и не думал подходить. Он, опустив голову, стоял в сторонке и не знал, куда деваться от жгучего стыда, потом вдруг резко повернулся и поспешил в деревню, к себе домой. С того самого дня Усе словно умер для односельчан: с ним перестали разговаривать, приходить к нему домой, встретив на улице, отворачивались или вовсе переходили на другую сторону, одним словом, люди от него отвернулись и заклеймили презрением. Через некоторое время он не выдержал и вместе с семьей покинул деревню.
ПРЕДАННОСТЬ
ПРЕДАННОСТЬ
(Быль)
Я болел и лежал в больнице. В палате нас было двое – я и один армянин – мужчина средних лет по имени Тигран, человек хороший и замечательный собеседник.
Ну, чем обычно убивают свободное время в больнице? Или обсуждают свои болезни, или пускаются в воспоминания. В этом отношении мне повезло. Стоило мне начать говорить о своей болезни, как Тигран так умело и незаметно переводил разговор на очередную увлекательную историю, что я очень скоро забывал о своих болячках и с интересом слушал рассказчика. Он действительно обладал каким-то особым даром с первых же слов завоевывать внимание окружающих и держать их в «плену» своего повествования до самого его конца.
Однажды он рассказал мне вот какую историю.
— Еще  до войны меня забрали в армию, и я служил в Ленинакане. У одного нашего командира был свой конь. Сам он был молодой, подтянутый парень, и надо было видеть, как легко и умело он вскакивал на своего скакуна. К тому же он так уверенно держался в седле, что казалось, конь и всадник – это единое целое. Когда устраивались скачки, конь мчался с быстротой молнии и всегда первым приходил к финишу. Командир очень любил своего коня. Он сам за ним ухаживал, чистил, ласково поглаживал и никогда не пускал, чтобы кто-то, кроме него, ездил на нем.
до войны меня забрали в армию, и я служил в Ленинакане. У одного нашего командира был свой конь. Сам он был молодой, подтянутый парень, и надо было видеть, как легко и умело он вскакивал на своего скакуна. К тому же он так уверенно держался в седле, что казалось, конь и всадник – это единое целое. Когда устраивались скачки, конь мчался с быстротой молнии и всегда первым приходил к финишу. Командир очень любил своего коня. Он сам за ним ухаживал, чистил, ласково поглаживал и никогда не пускал, чтобы кто-то, кроме него, ездил на нем.
Так получилось, что тот молодой командир умер. Его мундир с наградами накинули на спину его коня, один из солдат взял его под уздцы и повел по двору казармы.
Вроде бы животное, а как будто знало, что его хозяин умер. Надо было видеть слезы, которые градом катились из его глаз. Мы пошли хоронить командира и взяли с собой на кладбище его коня с мундиром хозяина на спине. Помутневшие глаза скакуна не просыхали от слез. После погребения, как полагается, прогремели залпы орудий. Закончив на кладбище все церемонии, мы никак не могли увести коня с собой. Двое солдат, держась за уздечку, еле тянули его и с большим трудом повели к нашему гарнизону. Но на половине пути конь резко мотнул головой, вырвал из рук солдат уздцы и, развернувшись, поскакал обратно к кладбищу. Мы все рванули за ним, и когда подоспели, увидели, как конь передними копытами раскапывает свежую могилу своего хозяина. Он разворотил довольно много земли, и нам стоило огромных трудов изловить и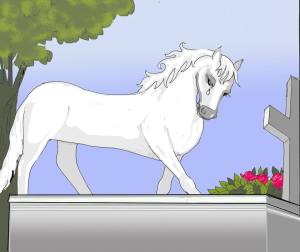 сдерживать это разгоряченное животное. Мы снова заполнили могилу землей и вернулись обратно.
сдерживать это разгоряченное животное. Мы снова заполнили могилу землей и вернулись обратно.
После смерти хозяина конь так никого и не допустил к себе. Что только ни делали, все впустую. Одним словом, когда увидели, что ничего из этого не получается, сдали его отдел, который занимался вопросами снабжения. Ну, а что становится со скакунами после тяжелых хозяйственных работ, думаю, объяснять уже не надо. Вот такая бывает преданность.
Художник Арыф Савынч.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕТВЕРОНОГИХ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ ЧЕТВЕРОНОГИХ
В нашей деревне было много одаʹ, где длинными осенними и зимними вечерами любили собираться мужчины. Там они коротали свое свободное время, и каждый вечер был непохож на другой: иногда рассказывались сказки, иной раз пелись песни, нередко обсуждались вопросы быта и какие-то важные события, но чаще всего разговор заходил об интересных событиях, участниками или свидетелями которых были наши рассказчики.
Самой большой из всех ода в деревне была ода дяди Джмшида. Мой отец каждый вечер шел туда и оставался там до полуночи. Иногда, уступив моим назойливым просьбам, он брал меня с собой, но при этом наказывал, что я должен вести себя хорошо, сидеть смирно и молча слушать то, о чем говорят взрослые. Придя туда, отец усаживался среди мужчин, а я шел к своим сверстникам – детворе, которая шумной стайкой занимала противоположный конец комнаты. Ода постепенно заполнялась, и когда уже яблоку было негде упасть, тогда и начиналось самое главное, ради чего собирались люди, – новый вечер занимательного досуга. Эх, какие интересные и захватывающие рассказывались истории! С каким любопытством мы их слушали! Жаль, очень жаль, что большая часть из того, о чем рассказывалось в той ода, позабылось. Но, к счастью, несколько историй так сильно врезалось мне в память, что даже по прошествии стольких лет я их не забыл и как раз о них и хочу вам рассказать.
* * *
Очередным поздним осенним вечером мы снова пошли в ода к дяде Джмшиду.
Там, как всегда, было полно народу. Растопленная кизяком печь заполнила приятным теплом все пространство. Мужчины сидели на подостланном войлоке, поджав под себя ноги, и курили. На другом конце комнаты сгрудилась детвора.
В тот вечер стали говорить о животных, и речь зашла о собаках. Дядя Гасо, наш хороший рассказчик, поведал нам вот какую историю.
— В то время мы жили в Турции и пока еще не перебрались сюда. Я был молод и пас овец нашей деревни. У нас был пес по кличке Басар, которого я всегда брал с собой.
Выше деревни был раскинут большой лес, куда однажды я и погнал свое стадо.
Лето, жарко печет полуденное солнце, овцы прячутся в тени деревьев, и я, разморенный этим зноем, тоже выбрал себе удобное  место в тенечке и, подложив под голову свою старую телогрейку, отдыхаю. Уже не помню, как задремал и заснул, и не знаю, как долго это продолжалось. Но, открыв глаза и оглядевшись по сторонам, с ужасом обнаружил, что овец нет, овцы пропали. Ну, представляете мое состояние? Я, еще полусонный и плохо соображающий, вскакиваю и пускаюсь по лесу искать мою отару. Не хочу вас утомлять всеми подробностями, как это было, одним словом, скажу, что в конце концов я нашел и собрал всех овец. Пока я это делал, подошло время вечерней дойки овец. И только тогда я вспомнил про свою телогрейку, которую где-то оставил. Как назло, я не помнил, где именно я отдыхал, да и времени у меня не было пускаться на ее поиски – мне надо было торопиться обратно в деревню. К тому же не такая уж хорошая была эта телогрейка, чтобы о ней жалеть, — одно старье и лохмотья. Если честно, то я даже был рад, что ее потерял, и решил, что в тот же вечер скажу отцу, чтобы он купил мне новую.
место в тенечке и, подложив под голову свою старую телогрейку, отдыхаю. Уже не помню, как задремал и заснул, и не знаю, как долго это продолжалось. Но, открыв глаза и оглядевшись по сторонам, с ужасом обнаружил, что овец нет, овцы пропали. Ну, представляете мое состояние? Я, еще полусонный и плохо соображающий, вскакиваю и пускаюсь по лесу искать мою отару. Не хочу вас утомлять всеми подробностями, как это было, одним словом, скажу, что в конце концов я нашел и собрал всех овец. Пока я это делал, подошло время вечерней дойки овец. И только тогда я вспомнил про свою телогрейку, которую где-то оставил. Как назло, я не помнил, где именно я отдыхал, да и времени у меня не было пускаться на ее поиски – мне надо было торопиться обратно в деревню. К тому же не такая уж хорошая была эта телогрейка, чтобы о ней жалеть, — одно старье и лохмотья. Если честно, то я даже был рад, что ее потерял, и решил, что в тот же вечер скажу отцу, чтобы он купил мне новую.
И тут-то меня осенило, что как только я проснулся, Басара рядом тоже не было. Я подумал, что, наверное, пока я спал, к овцам стали подкрадываться волки, и, защищая стадо, Басар кинулся к ним. Со страхом в душе я пригнал овец в деревню и только после того, как они разошлись по домам, смог вздохнуть спокойно – ни одна из них не пропала. Басар же так и не попался мне на глаза, и я прикинул, что он мог прибежать домой раньше меня.
Вернувшись домой, я первым делом спросил про Басара, но мне ответили, что его нет. Как ни ждали, как ни искали мы нашего пса, он так и не появился. Я почти был уверен в том, что его загрызли волки, и за пропажу Басара мне от отца сильно влетело.
Так уж вышло, что сразу после этого случая я заболел и слег, и вместо меня несколько дней овец пас мой покойный младший брат. Когда я выздоровел, отец купил мне новую телогрейку, и наконец я получил желанную обновку. На следующий день я, как обычно, ранним утром погнал стадо пастись и направил его в тот самый лес. Овцы потихоньку щипали себе травку, и вдруг я заметил вдалеке какое-то существо, похожее на волка. Я подал голос в надежде, что если это волк, то он испугается и убежит, но гляжу – четвероногий встал и направился прямиком ко мне. Как только он приблизился, смотрю – это наш Басар! И как изменился наш бедный пес: глаза впали, но блестят от радости, одни ребра и кости торчат, а хвостом виляет вовсю, да еще и меня обнюхивает. Он покрутился около меня, повилял хвостом, а потом вдруг побежал к одному дереву. Я за ним. Смотрю, под деревом валяется моя старая телогрейка, а мой Басар обеими передними лапами встал на нее и смотрит на меня. То на меня смотрит, то на телогрейку, потом опять на меня и снова на телогрейку… И так несколько раз.
Я догадался, что он остался в лесу из-за моей телогрейки, которую я тогда потерял. Но так как у меня уже появилась долгожданная обновка, я не захотел забирать с собой это старье. Я повернулся и пошел обратно, уверенный в том, что Басар пойдет за мной, но, пройдя довольно-таки большое расстояние, понял, что его рядом нет. Пришлось вернуться обратно, и смотрю – та же картина: Басар обеими передними лапами стоит на моей телогрейке и смотрит на меня. Он смотрит, но в глазах прежнего блеска уже нет, да и хвостом вилять перестал. Я прикрикнул на него и немного подтолкнул, мол, давай, мы должны идти. Он сошел с телогрейки, поджал хвост и понуро поплелся. Я думал, что он идет к отаре овец, и даже не оглядывался, но, дойдя до места, обнаружил, что его там нет. Я стал звать его, но без толку. Тогда я подумал, что он мог уйти домой, но когда вечером вернулся и спросил про Басара, мне ответили, что он не приходил. Прошло несколько дней, но Басар так и не появлялся.
Однажды отец спросил меня:
— Слушай, а где наш Басар? Что-то давно я его не видел.
И мне пришлось рассказать отцу всю историю про Басара и телогрейку. Отец в гневе вскочил, влепил мне хорошую затрещину и вскричал:
— Чтоб ты провалился! Упустить такого пса! Все, Басар уже не вернется!
Отец был на меня очень зол. Через некоторое время, когда он немного успокоился, объяснил мне, почему так получилось:
— Понимаешь, сынок, он на тебя обиделся. Бедное животное несколько дней не отходило от того места, оставалось голодным, и делало это ради твоей телогрейки. Поэтому, когда он тебя увидел, то думал, что ты обрадуешься, похвалишь его, нальешь миску молока. Ты должен был понять, что когда он смотрел на тебя и на телогрейку, то хотел тем самым сказать тебе – смотри, хозяин, я остался здесь из-за твоей телогрейки, я стерег и оберегал ее. А ты, вместо того, чтобы похвалить, разозлился на него. Вот почему он обиделся и ушел. Басар больше не вернется, и не жди его. Я это точно знаю.
И действительно, Басар так и не объявился, и больше мы его не видели.
* * *
— А какое у собак чутье, — продолжил разговор дядя Сайдо. – Поэтому и, говорят, волк как-то сказал: если бы мой нюх был таким, как у собаки, я бы истребил весь мир. Может, вы сейчас не поверите, но то, о чем я вам сейчас расскажу, чистая правда, и я сам все видел своими глазами.
Да будет земля пухом всем усопшим родственникам уважаемых присутствующих, мой покойный отец и покойный дядя, когда мы еще жили в Турции, каждую весну уходили на далекие горные пастбища пасти скот и оставались там все лето. Осенью же, собрав плату за свою работу, они делали покупки для дома и возвращались. Ну, а тогда времена были совсем другие: не было ни телефонов, ни писем, ни телеграмм, чтобы оповестить своих близких о том, что они возвращаются. Люди были неграмотные, про телефоны вообще никто не слышал, вот и рассчитывали по-простому: ушли весной, а вернутся осенью.
У нас был один пес по кличке Бойнах. Интересно было то, что он, в отличие от большинства собак, не имел привычки лаять. Мы никогда его не привязывали, и с утра до позднего вечера он бродил по деревне, шастал по помойкам и возвращался к дому только поближе к ночи.
В тот день, когда отец и дядя должны были вернуться, с самого утра Бойнах поворачивал морду в сторону горного перевала и принимался выть.
Моя бабушка говорила мне:
— Сайдо, лао, сходи-ка посмотри, в какую сторону воет Бойнах?
Я шел, смотрел и когда возвращался и отвечал, что пес воет в сторону перевала, бабушка начинала суетиться и, повернувшись к невесткам, говорила:
— Слава Богу, не иначе как сегодня наши мужчины вернутся. Ну, невестушки, поторапливайтесь, у нас много дел: надо до их прихода и дом прибрать, и обед приготовить.
Бойнах тем временем не мог усидеть на месте. Он сновал туда-сюда, крутился под ногами, потом поднимался на крышу нашего жилища и оттуда, повернув морду в сторону перевала, принимался выть.
Ближе к полудню наш пес срывался с места и мчался, как ветер, к горному перевалу. А ты не скажи, как раз в то время отец и дядя подходили к его противоположной стороне. Уже после они рассказывали, как Бойнах, добежав до них, в радостном возбуждении подпрыгивал, упирался лапами им в грудь, немного шел вместе с ними, но потом не выдерживал, вырывался вперед и мчался обратно, в деревню. Очень скоро мы видели, что издалека к нам несется наш Бойнах. Он подбегал к двери, громко лаял и все поворачивался в ту сторону, откуда прибежал. Если мы были дома, он вбегал внутрь, визжал, играл с нами и кидался обратно во двор и при этом поворачивался посмотреть, не идем ли мы за ним следом. Когда мы выходили из дома, он принимался громко лаять, указывая мордой в ту сторону, откуда должны были прийти наши родные, и как будто тем самым давал нам знать, что мы должны пойти им навстречу. И до тех пор, пока мы не пускались в путь, Бойнах не успокаивался. Когда мы шли навстречу отцу и дяде, он бежал впереди нас и, завидев их, первым бросался к ним с радостным лаем. На обратном же пути, уже после того, как мы встретились и вместе возвращались в деревню, он, хоть и снова был впереди нас, но шел уже более спокойно и неторопливо. Доведя, таким образом, нас до самого дома, Бойнах оставлял нас и снова, как обычно, пускался по деревне.
должны пойти им навстречу. И до тех пор, пока мы не пускались в путь, Бойнах не успокаивался. Когда мы шли навстречу отцу и дяде, он бежал впереди нас и, завидев их, первым бросался к ним с радостным лаем. На обратном же пути, уже после того, как мы встретились и вместе возвращались в деревню, он, хоть и снова был впереди нас, но шел уже более спокойно и неторопливо. Доведя, таким образом, нас до самого дома, Бойнах оставлял нас и снова, как обычно, пускался по деревне.
В последние годы, когда мой отец и дядя возвращались обратно и к ним прибегал Бойнах, они давали ему что-нибудь из своих покупок, чтобы он доставил это домой и тем самым дал нам знать, что они в пути и уже близко. И представьте, так оно и получалось: стоило нам увидеть, как со стороны перевала несется наш пес с чем-то в зубах, мы уже точно знали, что это возвращаются отец и дядя и что они совсем рядом.
Вот вам и история про нашего Бойнаха, который чуял запах своего хозяина на таком огромном расстоянии.
* * *
— Прошу прощения у уважаемых присутствующих, у нас была одна сука, — начал свой рассказ дядя Хало.
— Не надо извиняться, продолжай, брат, — ответили ему мужчины.
Дядя Хало достал из кармана своего бешмета табакерку, отрезал полоску папиросной бумаги, всыпал в нее немного табака и завернул папироску. Все это он делал молча, не спеша и сосредоточенно – уж такой у него был характер: начинать что-то рассказывать, потом замолкать, приниматься сворачивать папиросу, закуривать, делать пару затяжек и только потом продолжать свой рассказ.
Правда, хоть дядя Хало и поселился в нашей деревне совсем недавно, примерно несколько лет назад, но все уже хорошо знали его характер: говорит он мало, в разговор вмешивается редко, но если принимается о чем-то рассказывать, то заслушаешься…
Присутствующие повернулись к нему, и все в полной тишине терпеливо ждали, какую же интересную историю дядя Хало расскажет им на этот раз.
— Итак, мои дорогие эфенди, — не спеша продолжил дядя Хало, — наша сука тоже не имела привычки лаять. Поэтому мы никогда ее не привязывали, и она свободно бегала по деревне. Летом она обычно вертелась около большой кучи кизяка, а зимой ее место было или у сеновала, или у хлева, где мы держали коров. Надо сказать, что в нашей деревне было принято строить хлева и конюшни подальше от домов, и вход туда был, конечно, отдельный. Эти двери, естественно, на ночь запирались, и к ним крепилась длинная цепь, на которую сажали собаку. Все это делалось для того, чтобы помешать ворам, и я вам скажу, мало кто осмеливался подойти поближе к таким грозным сторожам, которые были начеку все двенадцать месяцев в году и все ночи напролет. Вот поэтому в нашей деревне воровства почти не было.
Когда бы ты ни вышел ночью во двор, наша сука смирно сидела на цепи у дверей хлева. Овец у нас не было, а только несколько коров и быков, которых мы и держали в том хлеву. Услышав скрип открывающейся двери, она поднимала голову, смотрела на нас, потом вставала, подходила, немного играла с нами и снова возвращалась обратно, на свое место.
Дядя Хало снова замолк, завернул вторую папиросу и закурил.
— Дело было ранней весной, — продолжил он свой рассказ. – Минуло за полночь, и я вдруг проснулся от странных звуков. Оказалось, что это наша собака, которая визжала и когтями царапала входную дверь. Что от вас скрывать, что от Бога скрывать, врать не стану – я сильно испугался. От страха натянул одеяло на голову и лежу молча. Почему-то мне подумалось, что поблизости волки, а страх перед волком, как вы знаете, вещь страшная. Я от ужаса весь съежился и не могу пошевелиться. Не знаю, сколько прошло времени, но потом вижу – мама моя, царство ей небесное, и да будет пухом земля и вашим усопшим, встала с постели.
— Земля пу хом и твоим усопшим родителям, — откликнулись присутствующие.
хом и твоим усопшим родителям, — откликнулись присутствующие.
— Мама моя встала, зажгла лучину и стала будить моего отца. «Ло-ло, ло-ло, вставай, слышишь, — говорит она ему, — сука наша все визжит и визжит. Может, волки близко и хотят утащить ее?»
— Ну, а у отца моего, да будет ему земля пухом, сон был очень крепок, и маме пришлось долго тормошить его, пока он не проснулся.
Услышав, как скулит наша сука, отец вскочил с постели и прямо в нижнем белье подошел к двери и открыл ее. Мы, дети, тоже проснулись, сели в своих постелях и смотрели, что же будет дальше. А дальше было вот что: как только отец открыл дверь, в дом забежала наша собака и, виляя хвостом, стала с визгом крутиться у его ног. Потом выскочила из дома, и отец с матерью, поняв, что что-то случилось, побежали за ней. За родителями помчались и мы, дети, и увидели, как сука наша уже стоит у дверей в хлев и царапает ее своими когтями.
— Да что же это такое? – удивился отец. – Может, волк туда залез через световое окошко? – и бегом кинулся в наши сени, сорвал со стены ключ от хлева и прибежал обратно. Вслед за ним бежала мама с зажженной лучиной, а за ней мы, дети.
Отец открыл двери хлева и хотел было зайти, но собака, ловко прошмыгнув мимо него, юркнула туда первой.
— Неси сюда скорее лучину, посвети мне! – раздался крик отца из хлева, и мама кинулась туда. Когда в хлеву стало светло, мы все увидели, что наша корова отелилась и уже облизала и высушила теленка, а другие коровы и быки, оборвав свои веревки, которыми были привязаны, сгрудились в другом конце хлева и глухо мычали.
которыми были привязаны, сгрудились в другом конце хлева и глухо мычали.
— Ты видишь, как собака прибежала и дала нам знать, что корова отелилась? – повернулся отец к маме. – Если бы мы об этом не узнали, то до утра коровы насмерть затоптали бы теленка.
— Вот так, мои дорогие! А еще говорят, собака не понимает. Я клянусь уважаемым присутствующим, все это видел собственными глазами, и в моем рассказе нет ни слова неправды, — закончил свою историю дядя Хало.
* * *
— А я собственными глазами видел другую невероятную историю, — продолжил разговор Хамзо, как только дядя Хало закончил свой рассказ.
Это случилось несколько лет назад. Я тогда работал в городе, и в том дворе, где я снимал комнату, жила одна семья, которая потом уехала за границу. У них была хорошо обученная собака, но они с собой ее не взяли и оставили соседям.
Прошел примерно год, как они уехали. Письма от них приходили постоянно, и соседи всегда были в курсе, как у них дела и как им живется-работается на новом месте.
Однажды собака ни с того ни с сего начинает беспокойно носиться по комнате, выть, царапать когтями входную дверь и рваться наружу. Хозяева удивляются, потому что до времени, когда ее обычно выгуливают, еще далеко. Но видя ее состояние, бывают вынуждены вывести ее во двор. Но и там она не успокаивается, кидается по сторонам и то воет, то скулит. Приводят ее обратно домой, но и тут та же картина. Хозяин внимательно осматривает собаку, видит, вроде бы все нормально, но, заглянув ей в глаза, поражается – они полны слез. Пытаются накормить ее, дать воды, но она ни к чему не притрагивается и только носится по комнате и, не переставая, воет.
Одним словом, не буду вас утомлять подробностями, но собака со своим воем не дала домочадцам сомкнуть глаз до самого утра.
Ну, а люди городские к собакам относятся хорошо, вот и взяли они ее к врачу. Да-да, к врачу, оказывается, в городе есть такие специальные доктора для собак. Так вот, врач осматривает собаку и говорит, что с ней все в порядке, что она не больна. И только тогда хозяева догадываются, что, наверное, что-то произошло и поэтому собака так неспокойна. И на всякий случай решают запомнить тот день, когда это случилось.
Через некоторое время та семья, кому оставили собаку, получила от своего бывшего соседа письмо. В нем он сообщил, что в такой-то день (то есть в тот же самый день, когда собака не могла успокоиться) умерла его жена…
Эта весть облетела весь квартал. Очень многие просто не поверили. Уверяю вас – и я бы не поверил, если бы не жил в том же дворе и не видел все своими глазами. Письмо было прочитано при мне, его слышал не только я, но и другие жильцы, и мы все очень хорошо помнили тот самый день, когда это случилось.
И что вы на это скажете? Это вам не ум и не острый нюх, а что-то совсем неведомое. Посудите сами – как могло случиться, что на таком огромном расстоянии собака могла почувствовать, что именно в тот день, совсем в другой далекой стране, жена его хозяина умерла? Это же просто невероятно!
— Действительно, история поразительная, мы еще такого не слышали, — сказал дядя Хало и, впечатленный, протянул рассказчику свою табакерку, чтобы тот отсыпал себе табачку и завернул папиросу.
* * *
И вот так, до поздней ночи в ода дяди Джмшида рассказывались разные истории. Их было много, очень много, и одна интереснее другой. Но как жаль, что из всего услышанного в моей памяти остались лишь эти, о которых я только что вам поведал.
Художник Арыф Савынч.
ЖЕНИТЬБА АЛО
ЖЕНИТЬБА АЛО
 Ало был единственным ребенком в семье. Братьев и сестер у него не было, отец умер давно, и эта небольшая семья состояла только из него и старой матери. Ветхая комната и передняя часть сеней их старого дома жалко съежились и тесно прижались друг к другу, как какие-то два живых существа в морозную зиму в надежде согреться. В комнате была дверь, ведущая в сарай. Все их нехитрое хозяйство составляли несколько коз и собака по кличке Рнде[1]. Рядом с домом когда-то протекала речка, но она давным-давно пересохла, и никто не помнил, когда по ней в последний раз текла вода. Ало всю весну и все лето с утра до вечера отлеживался в этом высохшем русле и вставал только тогда, когда с пастбища возвращалось стадо и разбредалось по деревне. Он шел за своими козами, пригонял их домой, а мать Шени доила их, кипятила в тандуре молоко, заквашивала и получала из него маст[2].
Ало был единственным ребенком в семье. Братьев и сестер у него не было, отец умер давно, и эта небольшая семья состояла только из него и старой матери. Ветхая комната и передняя часть сеней их старого дома жалко съежились и тесно прижались друг к другу, как какие-то два живых существа в морозную зиму в надежде согреться. В комнате была дверь, ведущая в сарай. Все их нехитрое хозяйство составляли несколько коз и собака по кличке Рнде[1]. Рядом с домом когда-то протекала речка, но она давным-давно пересохла, и никто не помнил, когда по ней в последний раз текла вода. Ало всю весну и все лето с утра до вечера отлеживался в этом высохшем русле и вставал только тогда, когда с пастбища возвращалось стадо и разбредалось по деревне. Он шел за своими козами, пригонял их домой, а мать Шени доила их, кипятила в тандуре молоко, заквашивала и получала из него маст[2].
В комнате было четыре стуна[3]. Во время праздника Хдрнави[4] они рисовали мукой овец и пастухов на том стуне, который был ближе всего к тандуру. В первые дни нарисованные образы были довольно яркими, но постепенно из-за дыма и копоти от тандура они начинали блекнуть и превращаться в грязно-желтые расплывчатые рисунки. На тот же стун был подвешен мешочек, где хранились дрожжи, а рядом в стене была небольшая ниша, куда по вечерам ставили заправленный керосином светильник. Он горел до тех пор, пока мать и сын не ложились спать, и на потолке ниши время от времени образовывалась и свисала сажа в виде длинной сосульки. Они ее никогда не трогали, и эта черная сосулька могла провисеть там столько, пока в один день сама же под своей тяжестью не падала вниз.
Шени, подоив своих коз, запускала их в общую для всей деревни отару овец, а сама приходила садилась рядом с сыном в то устье высохшей речки, где он любил лежать, и никто не знал, о чем они разговаривали, потому что никто к ним не ходил, да и они сами почти ни с кем не общались.
Их комната находилась почти под землей, а точнее, три стены из четырех снаружи не были видны, потому что были на одном уровне с землей. Поэтому, когда Ало или Шени взбирались на потолочное перекрытие своего ветхого жилища, им не нужна была никакая лестница: прямо сбоку они могли легко подняться наверх. Только со стороны двери, которая смотрела на восток, была видна четвертая стена дома и стена сеней. В самих сенях дверей не было, и открытое пространство каждый вечер закрывали старой молотильной доской. Своих коз держали прямо в комнате, в одном из огороженных углов. Место же Рнде было в сенях, и ее никогда не привязывали. Зимой, когда выпадало много снега, в сенях его набивалось столько, что Ало с трудом мог приоткрыть изнутри дверь. Чтобы выйти во двор, ему приходилось сперва протаптывать по наметенному снегу несколько шагов, и только потом он мог выползти наружу. Выбравшись из снежного плена, Ало брал деревянную лопату и принимался тщательно расчищать занесенные снегом сени.
В потолке комнаты было два окошка: одно обычное большое и дымоход. Большое окошко закрывали подходящим по размеру плоским куском дёрна, в центре которого делалось отверстие. Через это отверстие свет проникал внутрь. Летом его оставляли открытым, а зимой наполовину закрывали кизяком, оставив немного места для дневного света. В дымоход был засунут разбитый старый чан, и после того, как дым и копоть от тандура выходили наружу, его горлышко затыкали тряпкой.
Ало был священнослужителем и не работал. Он занимался лишь тем, что отводил и пригонял коз, собирал для них корм и косил траву на крыше дома и вокруг него. А еще раз в год он ходил к своим мридам[5], собирал пожертвования и тем и обходился. Кто бы сколько ни дал, он брал смиренно, никогда не говорил, что мало, благословлял и уходил. Ало не знал никаких религиозных гимнов и песнопений. И, несмотря на то, что он считался не слишком рьяным духовным лицом, сельчане все равно относились к нему с уважением за спокойный и сдержанный нрав. Вот почему, если в деревне кто-то умирал, никого больше не звали, а посылали за Ало. Он обмывал покойника, предавал его земле, и родня умершего и другие сельчане давали ему за это все, что полагалось. Когда исполнялось семь дней со дня смерти, устраивались поминки, снова звали Ало и давали ему одежду усопшего. Все, во что он был одет, в основном была одежда умерших. Так же было и у его матери Шени. Правда, она была очень языкастой и сварливой женщиной, но сельчане во имя очага и их духовного статуса предпочитали помалкивать и не связываться с ней, что бы она ни говорила. Если вдруг она затевала с соседями ссору, они говорили ей «будь ты проклята» и спешили поскорее уйти прочь.
Пастухи за выпас их коз и козлят плату с Ало не брали. У него был небольшой участок земли прямо перед домом, где он сажал овес, а за домом огород, где росла картошка. Когда подходила их очередь поливать свой огород, Ало с лопатой возился у грядок, а Шени шла к истоку и, усевшись поудобнее, сторожила, чтобы деревенские ребятишки не перекрыли им воду. Она знала, что никто не станет этого делать, знала, но все равно шла. Ну, такой уж у нее был характер – слишком недоверчивый и подозрительный.
Их топливом был кизяк, и до поздней осени Шени занималась его заготовкой. Каждый день она направлялась за деревню, в те места, где в середине дня отдыхал крупный рогатый скот, и собирала кизяк, приносила его домой, потом складывала всё пирамидой у стены недалеко от входа в сени[6]. Эта куча оставалась на воздухе до тех пор, пока кизяк не высыхал окончательно, и до начала сезона дождей его убирали в сарай и складывали в одну сторону, а в другую сторону клали заготовленный корм для коз.
В сарае были чаны с маслом, бурдюки с сыром и кислым творогом, несколько мешков муки и картофель, который хранили в выкопанной для этого яме. Поздней осенью Ало вместе с несколькими односельчанами на арбе ездили в соседнюю армянскую деревню и закупали там овощи. Те покупали капусту, но Ало, как священнослужитель, не имел права есть этот овощ и поэтому ограничивался тем, что брал черную свеклу и морковь. Привезя это домой, он зарывал все в землю рядом с ямой, где хранил картошку, и овощи надолго оставались свежими. Каждую осень, когда Ало шел к своим мридам собирать пожертвования, он также делал закупки для дома. Кайси[7], рис, шпат, которые привозил Ало, Шени также хранила в сарае. Туда вела такая ветхая деревянная дверь, что ее скрип был слышен даже издалека, а дверные петли настолько прохудились, что от них осталась только половина.
Из соседей никто к ним не ходил кроме Аслик. Шени не нравились ее приходы, но Аслик была очень упрямой и бесцеремонной. К слову сказать, нуждающейся ее никак нельзя было назвать: у нее было всё и даже с избытком. Но такой уж у нее был характер – настоящей попрошайки и охотницы за дармовщиной. Во время полдника она давала средней дочери в руки миску и посылала к соседям. «Мама сказала, пошлите мою долю из того, что сегодня приготовили», — говорила девочка и протягивала миску хозяйке дома. Как-то раз кто-то из соседей стирал белье. Большая кастрюля, полная воды, стояла на тандуре и кипела. Дочь Аслик, как всегда, с миской в руках зашла в дом. « — Мама сказала, пошлите мою долю из того, что сегодня приготовили», — сказала она и, прислонившись к стуну, протянула хозяйке свою миску. А хозяин в тот момент был дома. Быстро подойдя к девчонке, он взял у нее из рук миску, зачерпнул в нее кипящую воду из кастрюли, вернул ей эту миску и сказал: « — Вот что сегодня мы приготовили! А это доля твоей мамы».
В характере Аслик была еще одна черта – она была очень завистлива и никому не желала добра. Если какая-то семья покупала себе что-то новое и она узнавала об этом, то не могла ночью уснуть. Она спешила в тот дом, просила показать ей обновку и непременно находила в ней какой-нибудь недостаток и делала так, что хозяева расстраивались и разочаровывались в своей покупке. И когда видела, что в их душу закралось сомнение, у нее поднималось настроение и от злорадства начинали блестеть глаза.
Если погода была хорошая, Аслик с утра до вечера сидела на крыше своего дома и зорко следила за всем, что творилось вокруг: у кого из дымохода идет дым, кто что принес домой, кто к кому пошел, у кого что есть во дворе… Она была завистлива до такой степени, что, даже увидев, как коровы или овцы забрели на соседское поле или же взобрались на стог сена, никогда не давала знать об этом хозяевам, не говоря уже о том, чтобы самой спуститься и прогнать оттуда животных.
Аслик была единственной из всех женщин деревни, кто ходил к Шени домой. Шени не любила ее и никогда не заглядывала к ней даже на минутку. Таков был ее характер: она ни к кому не ходила да и не желала, чтобы кто-нибудь заходил к ней.
Но как бы Шени ни чуралась общества Аслик, совсем держаться в стороне не получалось: они были соседями, и волей-неволей приходилось встречаться, помогать друг другу, иногда общаться и как-то проводить свободное время.
Ало уже давно пора было жениться, но он все медлил, да и мать тоже на этом особо не настаивала.
— Зачем ему жена? – отвечала она на соседские расспросы. – Ради Бога, охота ему раньше времени совать голову в петлю? Мой паренек еще ребенок, какое время ему жениться?
Но когда у Ало спрашивали, почему он не женится, он всегда отвечал:
— Женитьба никуда не убежит. А если и убежит, то ей счастливо, я не стану за ней гнаться.
Так и не женив Ало, Шени умерла. Ее похоронили по всем традициям, и Ало, зарезав своих коз, справил поминки.
Ту одежду умерших, которую в свое время давали Шени и она носила, после ее смерти отдали хушка ахрате[8], которая, как того требовали обычаи, пришла, обмыла покойницу и предала тело земле; ее постель же отдали бре ахрате[9].
[1] Рнде – по-курдски означает «хорошая», «красивая».
[2] Маст – кислое молоко, мацони.
[3] Стун – деревянный столб, поддерживающий потолочное перекрытие в курдском сельском жилище.
[4] Хдрнави – религиозный праздник курдов-езидов, проходящий в год один раз в феврале и длящийся 4 дня.
[5] Мрид – мирянин.
[6] Обычно этим способом заготовки топлива занимались те семьи, у которых в хозяйстве не было крупного рогатого скота.
[7] Кайси – сушеные абрикосы.
[8] Хушка ахрате – женское духовное лицо у езидов, букв. – сестра по загробной жизни.
У ИСТОКА
У ИСТОКА
Наш санаторий располагался на довольно высоком холме, и сверху было видно всё, как на ладони. Со всех четырех сторон зеленели леса, а напротив высились горы, которые, соединившись меж собой, образовывали посередине большую и широкую ложбину. Леса поднимались лишь до середины горных склонов, оставляя их верхушки серыми и лысыми. Кое-где – на гребнях гор, в оврагах, лежащих в тени, – всё еще оставались проталины, которые лениво таяли под лучами летнего солнца. Сам санаторий был окружен лесом, а чуть ниже была раскинута зеленая долина с недавно посаженными молодыми елками. Еще ниже снова шел лесной массив, и долина лежала как раз посередине между ним и нашим санаторием. Рядом протекала небольшая река и с журчанием спускалась вниз. В нее впадало несколько ручьев, которые усиливали течение и делали ее более бурной.
Мы с приятелями взяли себе в привычку каждый раз после полдника, когда начинало сильно припекать, ходить к этой реке. У каждого из нас уже было свое излюбленное место, и, расстелив на камне прихваченные с собой газеты, мы усаживались и расслаблялись кому как нравится. Одни разувались и погружали ноги в прохладную воду, другие подбирали соломинки или валявшиеся вокруг прутики и играли с ними, третьи просто наблюдали за струящимся речным потоком. Словом, каждый находил себе нехитрое занятие и отдыхал как мог. При этом начинало действовать какое-то негласное правило: не нарушать тишины с того момента, как все усаживались по местам. Все разговоры сразу же прерывались, и воцарившееся у реки молчание позволяло спокойно задуматься о своем или же просто расслабиться. Мы оставались здесь до тех пор, пока не наставало время обеда, потом поднимались и не спеша возвращались обратно.
Пониже санатория была небольшая деревня, и из наших окон были видны только крыши домов. Деревня буквально утопала в лесу, среди этого пышного зеленого пространства.
В один день я оторвался от своих приятелей, а точнее – не пошел с ними, как обычно, к реке. Мне захотелось внести перемену в мой ежедневный маршрут и направиться в другую сторону. Я решил немного прогуляться в той части леса, которая простиралась под санаторием, и после полдника вышел на асфальтированную дорогу и стал медленно спускаться вниз.
Лето, нестерпимо печет солнце. Я прохожу довольно длинное расстояние и дохожу до леса, который расположен немного выше той деревни. Жара меня сильно утомляет. Я выхожу с дороги, углубляюсь в лес и присаживаюсь под тень ветвистого дерева. Прохладный ветерок касается моего разгоряченного лица, и я с огромным удовольствием вдыхаю свежий и чистый лесной воздух. Вокруг меня полно диких цветов, и их аромат, смешиваясь с горным воздухом, действует опьяняюще, и я с жадностью вдыхаю его и не могу насладиться. Да и как насладишься всем этим за такое короткое время, когда, будучи рожденным в горных местах, волею судьбы перебираешься в город, где в году одиннадцать месяцев твои бедные легкие дышат лишь загрязненным воздухом, и только один месяц в году выпадает возможность попасть в тот далекий мир своего детства?..
Так же, как и много лет назад, когда я был еще ребенком, я ложусь на траву и смотрю на чистое небо. Ветер нежно касается цветов и легонько раскачивает их у моего лица. Чуть ниже того места, где нахожусь я, течет река и спускается вниз. Мои веки постепенно смыкаются, и я, сам того не замечая, погружаюсь в сладкую дрему. Не знаю точно, сколько прошло времени, но меня будят солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву и попадающие мне на лицо. Я приподнимаюсь и, продолжая сидеть на траве, оглядываюсь вокруг, как вдруг замечаю одну девушку: с лопатой в руке, она поливает огород. Огород недалеко, в ложбине, а я нахожусь в лесу, откуда открывается хороший обзор. Она же меня не видит и занимается своим делом.
На ней легкое платье, она босиком, а с плеча спадает тяжелая полураспустившаяся коса. Не девушка, а настоящая красавица!.. Тоненькая, нежная, со спокойным и чистым лицом, словно луна в полнолуние. Ноги как полное веретено, с тонкой щиколоткой и очень стройные. Узкая талия, пышная грудь… Одним словом, красавица.
Ловко орудуя лопатой, девушка сосредоточенно работает. Я, забыв обо всем на свете, любуюсь ею. В коротком платьице, она ходит по грядкам и поливает огород.
Немного поработав, девушка вдруг останавливается, внимательно оглядывается по сторонам и недовольно качает головой. Но никого не видит. Делает несколько шагов к реке и снова останавливается. Видно, на что-то сильно злится, кидает на землю лопату и начинает цокать. Тут я замечаю, что вода, текущая по грядкам, иссякла. Оказывается, у истока ей перекрыли воду. «Интересно, кто это сделал?» — думаю я и продолжаю наблюдать за ней. А она злится и все оглядывается, но никого поблизости как не было, так и нет. Я и сам невольно начинаю искать глазами того человека, который мог перекрыть ей воду. «А может, река сама снесла преграду и унесла ее с собой?» — вдруг приходит мне в голову.
Девушка берет лопату и, рассерженная, идет к истоку. Видит – кто-то нарочно закрыл путь воде. Камнями, дёрном перекрывает воду, снова направляет ее на свой огород, и поток с шумом устремляется в нужном для нее направлении. Девушка немного стоит у истока, внимательно смотрит по сторонам, и, убедившись, что никого поблизости нет, только тогда кладет лопату себе на плечо и идет вдоль реки обратно к своему огороду. Я же с интересом и любопытством слежу за ней взглядом и ни на секунду не упускаю ее из виду, но при этом стараюсь, чтобы она меня не заметила.
Она работает очень ловко и быстро: заканчивая поливать одну грядку, она тут же перекрывает воду и направляет ее на следующую. Двигаясь легко и проворно, она следит, чтобы вода не размывала грядки, и вовремя расчищает для нее место, чтобы нигде ничего не взбухло от избытка влаги. Так проходит некоторое время.
Вдруг с противоположной стороны ложбины показывается молодой парень, который украдкой приближается к истоку и перекрывает воду, текущую к огороду. Я порываюсь было окликнуть его и спросить, зачем, мол, ты это делаешь, но в следующее же мгновение я почему-то сдерживаюсь и решаю подождать и посмотреть, что же будет дальше. Парень перекрывает воду и затем быстро возвращается в лес и прячется за небольшим широким деревом.
Через несколько минут девушка замечает, что ее вода снова иссякла. Она опять оглядывается по сторонам, но никого не замечает. Снова взгромождает лопату себе на плечо и, рассерженная, идет к истоку. Вырез платья немного приоткрывает ее грудь, и среди этой изнуряющей летней жары небольшой кусочек свежевыпавшего за ночь снега издалека предстает перед моими глазами.
Кипя негодованием, девушка решительными шагами направляется к истоку. Я думаю о том, что попадись сейчас тот парень ей под руку, она бы, не задумываясь, тут же огрела бы его лопатой по голове. Но, похоже, парень из шустрых и прозорливых и поэтому успевает ловко спрятаться так, что совсем ей не виден. Она подходит к истоку, недовольно цокает, качает головой и, казалось, уже сама начинает догадываться о том, что всему виной не вода, которой вдруг вздумалось уносить ту самую преграду, а кто-то другой, кто делает это намеренно.
В ярости девушка входит в воду. Даже сквозь струящийся поток видны ее белоснежные ноги. Она снова принимается сооружать преграду из камней и дёрна, но этого ей кажется мало, и она, не поленившись, выходит, набирает побольше камней и надежно укрепляет свое заграждение. Я же издали любуюсь ею и ничего вокруг не замечаю…
Из воды она выходит не сразу, и я догадываюсь, почему: в то время суток вода в реке не так холодна и очень приятна для тела. Девушка внимательно и не торопясь оглядывается вокруг в надежде заметить того человека, который дважды сыграл с ней недобрую шутку. Она стоит так довольно долго, но так никого и не замечает. Потом, наклонившись, тянется за своей лопатой и вдруг резко вздрагивает, как вспугнутая газель. Оставив лопату на земле, она поднимает голову.
Я вижу, как тот парень, который прятался за деревом, выходит из своего укрытия, делает несколько шагов вперед, останавливается и смеется. Потом достает из кармана пачку папирос, вытаскивает оттуда одну, закуривает, делает пару затяжек и, положив руки на пояс, лукаво смотрит на девушку. Стоит и смеется.
Девушка наклоняется, подбирает лопату и, повернувшись к парню спиной, застегивает вырез своего платья. Только тогда, казалось, я начинаю чувствовать всю силу летней жары, обжигающей все вокруг. Положив лопату себе на плечо, она выходит из воды и медленно подходит к парню. А тот стоит себе на месте, стоит и хохочет. Она приближается и заносит было лопату, чтобы ударить ею парня, но тот и не думает сдвинуться с места, и до меня донесся его смех.
— Ударь, моя любимая, ударь меня, — говорит он, глядя на нее влюбленными глазами. – Уж лучше сразу умереть от твоего удара, чем каждый день, каждый миг гореть и тлеть от огня любви к тебе, как горю я сейчас.
Руки, державшие лопату, вдруг ослабевают, и девушка мягко отводит ее назад, опускает на землю и, опираясь на ее рукоятку, потупляет взгляд.
— Ты рассердилась? – спрашивает парень с нежностью.
— Да! Зачем ты перекрывал мне воду? – в ее голосе сквозит что-то среднее между обидой и радостью.
— Правильно делал. Можешь ударить меня лопатой и навсегда от меня избавиться.
Девушка молчит и, забыв, что уже застегнула вырез своего платья, снова подносит руку к пуговице и смущенно начинает ее теребить.
— Зачем ты это делал? – спрашивает она уже просто так.
— Я перекрывал воду в твой огород, чтобы река моей любви бурлила еще сильнее, — улыбаясь, отвечает он, потом бросает на землю недокуренную папиросу и тушит ее носком своего ботинка.
Оба молча подходят друг к другу. Девушка стоит, опустив глаза, а парень неотрывно на нее смотрит. Постояв еще немного, парень вдруг хватает ее за руку и притягивает к себе. Девушка молчит. Парень хочет обнять ее за шею, но она отводит его руку и делает шаг назад. В тот момент слышится прерывистый сигнал и шум колес, и оба поворачиваются в ту сторону. Легковой автомобиль мчится по дороге и направляется в сторону санатория. Девушка освобождает руку, которую продолжал держать парень, кладет лопату себе на плечо, разворачивается и идет к своему огороду. Парень стоит не двигаясь и смотрит ей вслед. Дойдя до своих грядок, девушка останавливается и, оглянувшись, издалека кричит ему:
— Больше не будешь перекрывать воду?
Парень продолжает стоять и смотреть на нее. Потом тянется за второй папиросой и не спеша закуривает. Автомобиль с шумом проезжает мимо меня.
— Если вечером пойдешь со мной в кино, я не буду перекрывать воду! А если нет, то перекрою, — кричит он в ответ.
Девушка делает вид, что не слышит. С лопатой в руке, она начинает обходить грядки. Пару раз поднимает голову и смотрит на парня. Она улыбается. Парень снова повторяет то, что сказал. Девушка тем временем оставляет свои грядки, втыкает лопату в землю и, опираясь на ее рукоятку, открыто смотрит на него с нежностью и любовью. Парень делает пару шагов вперед.
— Не перекрывай, я приду.
Вода нарушает границу одной грядки и перекидывается на другую. Но девушка ничего не замечает… Пока парень не скрывается за холмом, она стоит и смотрит ему вслед. Потом, не глядя по сторонам, медленно берется за лопату, которая ярким блеском сверкнула на этом палящем солнце. Бурный поток воды устремляется с одной грядки на другую, и девушка, спохватившись, еле успевает перекрывать ей дорогу. Вода бурлит.
Только тогда я прихожу в себя и чувствую, что изнемогаю от жары и весь покрылся испариной…
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
Народная молва рассказывает, как когда-то, очень давно в одной маленькой деревне произошли большие и невероятные события. Времена были такие, что каждый мало-мальски удивительный и необъяснимый случай очень быстро превращался в легенду, которая кочевала из дома в дом, из деревни в деревню, из одной округи в другую, из одного племени в следующее… История женитьбы Калаше Рашо была одной из таких необыкновенных историй, которая чем дальше, тем больше обрастала подробностями, росла как снежный ком и превратилась в настоящую красивую легенду. Те, кто были очевидцами всего случившегося, говорили «на то была воля Божья», а кто только слышал об этом, с недоверием отмахивался: «Мало ли что люди говорят…»
Легенда легендой, но что произошло на самом деле? Верный и исчерпывающий ответ на этот вопрос был получен только в последние годы.
… Семья Каро и семья Рашо были давнишними врагами. Когда-то дядя Рашо из-за какой-то ерунды убил отца Каро. Из рода убитого в той деревне жила только эта семья, вот и получилось так, что без поддержки сородичей они и думать не могли о какой-то кровной мести. Годы шли и шли, но примирения между сторонами как не было, так и не предвиделось.
Каро, который в ту пору был еще ребенком, подрос, женился, обзавелся детьми, но вражда между его семьей и семьей Рашо все еще оставалась такой же острой, как и много лет назад. Правда, дядя Рашо давно умер и детей у него не было, но вопрос мести оставался открытым. Ни о каком общении между Каро и Рашо не могло быть и речи. Мало того, что они не разговаривали друг с другом, так Рашо, как сторона, которая в любую минуту могла подвергнуться нападению, никогда не выходил из дома с пустыми руками, и стоило ему где-нибудь поблизости встретить Каро, как он тотчас же сворачивал со своей дороги и уходил в ближайший проулок.
В свое время много уважаемых и авторитетных односельчан неоднократно пытались восстановить мир между этими семьями, но Каро никак не соглашался.
— Ни за что! – говорил он. – Пока я жив, сам с ним расквитаюсь, а не успею – тогда за меня это сделают мои потомки. Уж лучше умереть, чем помириться с ними!
— А может, все-таки возьмешь плату за кровь? – предлагали ему посредники.
— Сегодня я за кровь получу деньги, а завтра-послезавтра они возьмут и скажут, что несколькими золотыми монетами заткнули мне рот, — раздраженно отвечал Каро. – Нет! Пролитая кровь моего отца безнаказанно на земле не останется, кровь будет смыта только кровью!
Рашо сделал много попыток уладить дело миром, время от времени посылая в дом Каро всё новых и новых посланников, но всё напрасно: тот и слышать ничего не хотел и каждый раз упрямо твердил одно и то же:
— Кровь будет смыта только кровью. Рано или поздно, но я сведу с ним счеты. И тогда вы убедитесь сами, чего стоит мужское слово.
Однажды случилось так, что Каро и Рашо случайно встретились. У Каро был кинжал, а у Рашо в тот день, как назло, с собой не оказалось никакого оружия. Рашо, как обычно, хотел свернуть с пути и пойти другой дорогой, но Каро его окликнул:
— Эй, ты … — и Каро разразился крепкой руганью, — теперь ты от меня не уйдешь! Готовься, я иду!
Каро потянулся за кинжалом и, держась за рукоятку, сделал несколько шагов вперед. Рашо остановился и спокойно сказал:
— Каро, перестань сквернословить и придержи язык. Да, мы с тобой враги, но то, что ты сейчас делаешь, недостойно настоящего мужчины. У тебя кинжал, а я стою с пустыми руками. Если у тебя хватит на это совести, тогда давай, вперед! Посмотрим еще, кто кого!
Эти слова разом отрезвили Каро, и он невольно остановился. Потом вложил кинжал обратно в ножны, молча повернулся и ушел.
Вскоре об этом случае узнала вся деревня.
— Настоящий мужчина так и должен был поступить, — говорили сельчане. – Мы бы просто перестали с ним знаться, сделай он такую подлость.
Все эти разговоры, конечно же, доходили до слуха Каро. К слову сказать, он, со своей стороны, тоже считал, что Рашо повел себя вполне достойно. Враг врагом, но все равно мужчина.
После того случая прошло несколько лет. И каждый раз повторялось одно и то же: Рашо по-прежнему старался избегать встреч с Каро, но если тот все же попадался на его пути, он поспешно сворачивал с дороги и уходил прочь.
Однако время делало свое, и чувство ненависти к Рашо постепенно теряло свою остроту. Каро уже не был так яростно настроен против своего врага, но на примирение все же не шел.
У Каро была дочь по имени Севе. Она и правда была настоящая Севе[1] – красивое наливное яблочко. И надо же было такому случиться, что сын Рашо Калаш влюбился в эту девушку, да еще как! Он просто сходил по ней с ума. Молодой парень тоже, в свою очередь, приглянулся Севе, но оба влюбленных, зная о кровной вражде между их семьями, могли смотреть друг на друга лишь издали и не смели даже думать о том, чтобы признаться в своих чувствах. Калаш боялся довериться даже близким друзьям и старался, чтобы никто ни о чем не догадался, — ведь услышь об этом Каро даже краем уха, тут же прибил бы дочь. И потом – ему не хотелось, чтобы об этом узнал даже его родной отец.
Севе тоже, как и Калаш, не знала, куда деваться от переживаний. Страх перед отцом и братьями был настолько силен, что она боялась поделиться даже с близкими подружками.
Но если тандур, пусть и плотно прикрытый крышкой, все равно остывает, то любовь между этими двумя сердцами не только не гасла, но, наоборот, разгоралась еще сильнее и искала любые пути и выходы, чтобы послать о себе весточку от одного любящего сердца к другому.
У Севе была подружка по имени Мрджан – очень добрая и чуткая девушка. Она давно почувствовала, что творится у Севе на душе, но, не желая смущать подругу, не торопилась говорить ей о своих догадках. Она терпеливо ждала, пока Севе сама не решилась поделиться с ней своим секретом. Итак, этот день настал.
— Ой, родная моя, хочу тебе кое-что сказать, но боюсь, — сказала Севе подружке. – Если наши узнают, то голову мне оторвут.
— Ты что, с ума сошла? Ты со мной поделишься, а я пойду и всем растрезвоню? – возмутилась Мрджан. – Будь спокойна, всё, что ты скажешь, останется между нами.
И Севе, ничего не утаивая, рассказала Мрджан всё как есть.
— Что от тебя скрывать, что от Бога скрывать… Влюбилась я в Калаша, — вздохнула Севе. – А тут еще и вражда между нашими семьями… Даже не знаю, чем это все закончится.
— Да уж… Положение и правда непростое. Но раз это любовь, разве ее остановят какие-то преграды или запреты? Дай Бог, всё образуется, – постаралась подбодрить подружку Мрджан и неожиданно вдруг добавила: — А хочешь, я поговорю с Калашем?
— Да ты что? – шикнула с испугом Севе. – Ты меня опозоришь! А если узнает отец? Он же убьет меня! Нет-нет, прошу тебя, никому ни слова! Я просто захотела с тобой поделиться, потому что больше не могу носить это в себе. И если, не дай Бог, об этом узнают, то сама знаешь, что со мной сделает отец.
Калашу тоже приходилось нелегко. В его душе бушевал неистовый огонь, который так и рвался наружу. Но кому скажешь о своих чувствах, с кем поделишься, кто поможет? Калаш перебирал в голове всю деревенскую молодежь, всех парней и девушек их возраста, но ни на ком, кроме Мрджан, близкой подружки Севе, не мог остановиться. Только ей, шептала ему интуиция, только ей и никому другому ты можешь довериться и попросить передать Севе, какие чувства к ней испытываешь…
И однажды Калаш, расхрабрившись и улучив момент, подошел к Мрджан, взял с нее слово, что никто не узнает об их разговоре, и рассказал ей о своих чувствах к Севе.
— Прошу тебя как сестру, — взмолился под конец Калаш, — узнай, пожалуйста, нравлюсь я ей или нет. Если буду знать, что нет, то как бы ни было тяжело, постараюсь вырвать из своего сердца эту любовь.
Мрджан не подала виду, что ей что-то известно, однако пообещала, что обязательно поговорит с подругой.
Через несколько дней Калаш и Мрджан снова встретились.
— С тебя причитается! – с озорной улыбкой сказала девушка.
— Твой брат готов, ты только скажи, — с нетерпением ответил Калаш.
Мрджан достала платочек и протянула его парню.
— А это тебе подарок от Севе.
Калаш дрожащими руками взял платок и крепко сжал в руке.
— Ради Бога, скажи мне правду, — со страхом и сомнением сказал ей юноша. – Она сама захотела послать его мне или ты насильно у нее забрала?
— Да ты что? – Мрджан даже слегка обиделась. – Это она! Она сама его отдала, чтобы я передала тебе. Я клянусь! Ты что, не веришь?
Калаш поднес платок к лицу и уткнулся в него носом.
— Боже, как хорошо он пахнет… Он пахнет ею… — пробормотал парень с закрытыми глазами и не заметил, как Мрджан улыбнулась.
— А что еще она говорила? – Калаш снова вернулся на землю.
— Она тоже, как ты, мучается, — ответила Мрджан. – Убегать с ним, говорит, не стану, но умру – достанусь земле холодной, а останусь жить – достанусь Калашу. Пусть не переживает, Бог милостив. Она так и сказала.
С того самого дня Мрджан стала их союзником, их надеждой и посредником. Она превратилась в того голубя, который доставлял весточку от Севе Калашу и от Калаша Севе, и обернулась тем мостиком, который соединял два берега, двух влюбленных. Очень часто она и Севе шли в поле нарвать съедобной зелени, и родители Севе, давно зная подружку дочери как хорошую девушку, не видели в этом ничего подозрительного. В поле же их поджидал Калаш, и так Мрджан помогла им несколько раз встретиться.
Ну, а деревня была маленькая, большие секреты в ней не помещались, и очень скоро всем обо всём становилось известно. Так постепенно и распространился слух о том, что Калаш и Севе любят друг друга. Некоторые говорили, что видели у Калаша платок Севе, другие утверждали, что видели их вместе в поле… Разговоры об этом возникали все чаще и чаще, люди судачили все увереннее и увереннее, молва росла-росла, пока не дошла до слуха Каро.
— Послушай, — обратился он к жене однажды вечером, — я кое-что услышал про нашу дочь, — и Каро рассказал ей про слухи, которые ходили по деревне насчет Севе и сына Рашо. – Что ты об этом думаешь? Это правда?
— Да ты что!!! – вскричала жена истошным голосом. – Это сплетни, грязные сплетни! Бедный мой ребенок и в глаза его не видел. Интриганы и сплетники нарочно так делают! Они знают, что между нами вражда, вот и делают всё для того, чтобы еще больше натравить нас друг на друга!
Хоть голос матери и звучал горячо и очень убедительно, но на самом деле еще до разговора с мужем она сама почувствовала что-то неладное. В ее душе зародились большие сомнения и подозрения, что дыма без огня не бывает, и поэтому решила поговорить с дочерью отдельно.
— Севе, доченька, — обратилась она к ней на следующий день, — скажи мне правду, я ведь твоя мама: говорят, ты влюбилась в сына того негодяя. Это так?
Дочь все отрицала.
— Не видать мне счастья, мама, если это правда, — уверенным голосом сказала она. – Это всё сплетни! На меня нарочно наговаривают. Ты думаешь, я не знаю, какие между нашими семьями отношения? Если ты что-то такое заметишь, можешь выколоть мне глаза.
Рашо тоже, в свою очередь, спросил об этом своего сына.
— Послушай, сынок, до меня дошли слухи, что ты влюбился в Севе, дочь Каро. Ты ведь знаешь – мы с ним кровные враги. Он скорее умрет, чем отдаст за тебя свою дочь. И не вздумай убегать с ней, слышишь? Если вдруг сделаешь такую глупость, то знай, что мы тут перебьем и поубиваем друг друга. Послушайся своего отца: если это действительно так, то держись-ка ты от греха подальше и выкинь всё это из головы, а то боюсь, добром это не закончится.
В ответ Калаш тоже, как и Севе, заверил отца, что всё это сплетни, разговоры, ложь и ни о чем подобном он не думал и не думает.
Однажды среди собравшихся в центре деревни сельчан снова зашел об этом разговор. Рашо, который тоже был там, довольно спокойно ответил на намеки о том, что между его сыном и дочерью Каро есть нежные чувства:
— Ну, и что там такого, — пожал он плечами. – Они молодые, если друг другу нравятся, пусть будут счастливы. Пусть только, дай Бог, Каро согласится, остальное ерунда. Какой калым ни запросит, я не поскуплюсь.
Очень скоро об этом разговоре узнал сам Каро и пришел в настоящее бешенство. Через людей он передал в адрес Рашо такие угрозы, что тот прикусил свой язык и больше никогда не осмеливался высказываться на эту тему.
После этого Каро избил дочь и потребовал, чтобы она во всем созналась. Но та горячо всё отрицала, плакала и, кинувшись отцу в ноги, поклялась, что между ней и Калашем ничего нет.
Но разговоры в деревне не утихали, и этот вопрос все чаще становился темой для пересудов и сплетен. Рашо был встревожен не на шутку, лишний раз старался не выходить в деревню и не пускал сына часто ходить с товарищами в поле. Каро, в свою очередь, вечно был не в духе, ужасно злился на дочь, не хотел ее видеть и несколько раз, придравшись к жене, избил и ее. Мать никуда Севе одну не отпускала, и Мрджан была единственным человеком, кому она доверяла и с кем могла отпустить «нерадивую» дочь в поле за съедобной зеленью.
Однажды Мрджан в очередной раз пришла к своей подруге. Дома были только Севе и мать. Мать куда-то на минуту вышла, и девушки сразу стали шушукаться. Когда та вернулась, Мрджан повернулась к ней со словами:
— Тетя, можно мы с Севе пойдем в поле нарвать для соленья пекаск[2]? Говорят, в поле около ущелья его полным-полно.
— Ладно, идите, — согласилась мать, — но только возвращайтесь поскорее. И далеко не уходите. Ты знаешь, Севе, твой отец не дома, он на базаре, и, не дай Бог, если он вернется, а тебя не окажется дома. Сама знаешь, что он с тобой сделает. Смотри, возвращайся поскорее, не опаздывай!
Тем временем Калаш уже спрятался в ущелье и с нетерпением ждал их прихода. Вскоре вдалеке показались обе девушки, которые направились к полю, простирающемуся до самого ущелья. Юноша незаметно подкрался к ним, и Мрджан под предлогом сбора зелени деликатно отдалилась от влюбленных на приличное расстояние. Калаш и Севе отошли к скале, присели у ее подножья и принялись шептаться. Мрджан, хоть и отошла подальше, все равно не выпускала их из виду. Она была неспокойна и боялась, что кто-то может увидеть влюбленных, которые, встретившись, забывали обо всем на свете и ничего вокруг не замечали. Поэтому она собирала зелень и одновременно зыркала по сторонам, чтобы ни ее, ни эту парочку никто не застиг врасплох.
— Я так больше не выдержу, — сказал под конец разговора Калаш. – И не вижу никакого выхода, кроме одного. Остается только руки на себя наложить…
Севе заплакала, и в этот момент показалась Мрджан, набравшая полный передник зелени. Она быстро приблизилась и сказала шутливым тоном:
— Ну же, голубки, вы еще не наворковались? Ведь уже поздно. Давай, Калаш, вставай и так уходи, чтобы тебя никто не заметил. А лучше всего спрячься в ущелье, благо, тебе это не впервой. Оставайся там, пока не стемнеет, и только потом выбирайся и уходи. Ну, вставай, вставай, Севе, нам с тобой еще надо пекаск нарвать для тебя, чтобы ты вернулась домой не с пустыми руками. Уже поздно, вот-вот отец твой вернется, как бы тебе не влетело…
Мрджан торопила Севе, а та словно одеревенела. Влюбленные держались за руки, смотрели друг другу в глаза, и никто не хотел делать первый шаг к расставанию. Наконец оба нехотя встали и понуро отошли друг от друга. Калаш оборачивался чуть ли ни на каждом шагу и с тоской смотрел на Севе. Она тоже все время оглядывалась, и так до тех пор, пока Калаш не скрылся за скалой. Он притаился, но и оттуда продолжал во все глаза смотреть на свою любимую, которая, хоть и опустила голову и вроде была занята сбором пекаска, но в душе, в мыслях была рядом с ним и только с ним. Вот почему по рассеянности бедная девушка вместо съедобной зелени нарвала так много дикой травы, что чуткая Мрджан довольно скоро это заметила. Чтобы помочь подруге, она быстро прекратила ставшее бесполезным занятие и, не колеблясь, отсыпала ей в передник половину своей зелени.
Издалека вдруг послышался голос пастуха Афо, который гнал стадо в сторону деревни. Севе перепугалась до смерти и до самого дома не могла толком вымолвить ни слова. Она шла бледная, упорно молчала, часто оборачивалась в сторону ущелья и тяжело вздыхала. Сколько ни пыталась разговорить ее Мрджан, сколько ни старалась с ней шутить, узнать причину ее подавленного настроения, всё бесполезно – девушка ничего не отвечала. Так, в полном молчании, они и разошлись, и каждая пошла к себе домой.
— Слушай, я тебя убью, — еле сдерживаясь, раздраженно сказала мать. – Я ведь сказала тебе, возвращайся поскорее, почему ты так опоздала? А если бы вернулся твой отец, что бы я ему ответила?
Севе ничего не сказала и, опустив голову, вытряхнула на стол собранную подругой зелень.
— Может, ты встречалась с сыном этого негодяя, поэтому опоздала, да?
Севе вся съежилась и еле слышно пробормотала:
— Нет, что ты… Как бы я с ним встретилась…
Не успела Севе договорить, как мать кинулась к ней, крепко ухватила за длинные косы, чтобы та не могла увернуться, и несколько раз ударила дочь по лицу.
— Убью, дрянь! Обрежу тебе косы и не пожалею!… Если узнаю, что ты с ним встречалась, задушу тебя своими же руками! Подожди, пусть только отец твой вернется… — кричала мать, задыхаясь от ярости.
Севе вырвалась, убежала в кладовую и от страха забилась в дальний угол. Она вся дрожала и прислушивалась, не вернулся ли отец. Но Каро в тот день почему-то запаздывал. До самой полуночи Севе так и просидела в том углу, не чувствуя ни голода, ни жажды. Потом встала и украдкой пробралась к себе. Все уже давно спали. Она тихонько вошла в свою комнату, затушила лучину и легла в постель. Севе лежала неподвижно, но разве в таком состоянии уснешь? Невеселые, очень невеселые мысли теснились в ее голове, и бедняжка не знала, что ей делать и как быть дальше…
Раздался стук в дверь. Мать встала, открыла дверь, и до Севе донесся голос отца. Девушка вся сжалась и боялась пошевелиться. Каро поужинал и лег в постель. Севе услышала, как отец и мать о чем-то тихо разговаривают, и напряженно прислушалась к их голосам.
— Ты знаешь, — сказал Каро жене, — вот уже в который раз до меня доходят слухи, что твоя дочь и сын того подлеца тайком встречаются в поле. Сегодня тоже, когда я возвращался с базара, услышал, как наши мужики шушукаются. Мне кажется, они говорили именно об этом, потому что когда меня заметили, сразу замолчали. Говорят, Афо несколько раз видел их в поле. Если это так, я вам обеим оторву головы – и тебе, и ей. Эта бесчестная паршивка меня опозорила…
— Не может быть! Это враки! – вспылила жена. – Лгут они. Ты что, не знаешь, какой Афо сплетник?
— Говорят, это Мрджан им вовсю помогает.
— Да нет же, что ты говоришь? Бедняжка даже из дома не выходит, куда ей встречаться с кем-то? Ты смотри-ка, какие сплетни распространяют, да накажет их Бог!
Каро вконец разозлился и, повысив голос, громко сказал:
— Значит, сплетни, да? Вся деревня только об этом и говорит! Всем же рот не заткнешь! Эта дрянь твоя дочь меня опозорила на весь белый свет! Нет, я должен ее наказать, — и Каро отбросил одеяло, встал и направился к стуну[3], на котором висел кинжал.
Жена кинулась ему в ноги.
— Что ты делаешь, несчастный? Змея змеей, но даже она не кусает того, кто спит. Ты что, хочешь этой ночью разрушить мой дом?
— Я отрублю ей голову и навсегда избавлюсь от этой дряни!
— Умоляю, ради Бога, не делай ничего этой ночью! Подожди хотя бы до утра, пусть проснется, а там делай с ней что хочешь…
Жена еще долго упрашивала мужа, призывала успокоиться и оставить расправу над дочерью до следующего утра. После долгих уговоров Каро нехотя подошел к стуну и вложил обратно кинжал в ножны.
— Ну, хорошо, я завтра с ней разберусь, — сказал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего.
Мать промолчала и только тяжело вздохнула.
Севе под одеялом вся съежилась и боялась пошевелиться. Она испытывала перед отцом не только сильный страх, но и жгучий стыд, и в одном была уверена точно – узнай он всю правду, ей действительно несдобровать. Мало было ей этих терзаний, так к ним еще прибавлялись и те горькие слова, сказанные Калашем во время их последней встречи. Тяжелые мысли, страх, паника, растерянность – всё смешалось и крутилось в ее голове, как бурный и мутный водоворот. Севе лежала, а перед ее открытыми глазами то и дело появлялись и исчезали какие-то призраки и странные видения. В ушах стоял ужасный звон, во рту пересохло, она была вся разбита и от изнеможения не могла даже пошевелить рукой. Потом ее стало клонить ко сну, она почувствовала, как тяжелеют веки, и в какой-то момент ей начало казаться, что она погружается в бурную воду и постепенно опускается на дно. Ей захотелось крикнуть, позвать на помощь и что-то сделать, чтобы спастись, но какая-то сила так сковала ее горло, что она не могла издать ни звука. Ее тянуло вниз, она погружалась все дальше и дальше, все глубже и глубже и так до тех пор, пока не перестала что-то чувствовать и понимать…
Обычно каждое утро Севе вставала раньше всех, застилала свою постель и шла за водой. Но на этот раз мать поняла, что дочь еще не встала. Ей стало жаль будить девушку, и она сама взяла коромысло и пошла за водой. Вернувшись, обнаружила, что Севе все еще спит. Уже и отец к тому времени поднялся, а дочь по-прежнему крепко спала.
Мать пошла ее будить:
— Севе, вставай, слышишь? Севе…
Севе не откликалась. Сначала мать осторожно потрясла ее за плечо, потом, видя, что та не реагирует, принялась энергично ее тормошить, но дочь никак не просыпалась. Она лежала с закрытыми глазами и не подавала признаков жизни. И тут мать осенило, что дочь умерла… У женщины подогнулись ноги, и, упав у постели дочери, она принялась бить себя по голове и рвать на себе волосы. По всему дому раздался ее истошный вопль:
— О, горе тебе, несчастный! Ведь Севе наша умерла!..
На крик тут же прибежал Каро. От неожиданности он не сразу понял, что произошло, и сперва даже раздраженно прикрикнул на жену. Но увидев ее лицо, расцарапанное в кровь, ее слезы, он кинулся к постели Севе, внимательно вгляделся в ее лицо и тоже стал расталкивать, надеясь, что дочь наконец проснется. Но сколько ни трясли девушку, сколько ни будили, все напрасно – Севе ни на что не реагировала. И только тогда, когда до Каро дошел весь смысл случившегося, он стал бить себя по голове и кричать:
— Севе, доченька, что ты наделала?! Почему разрушила мой дом!!!
На шум сбежались все члены семьи и с криком и слезами припали к постели Севе. Поднялся такой вой и надрывный плач, что мог разбудить даже мертвого. Севе же лежала с закрытыми глазами и с таким безмятежным лицом, что казалось, она не умерла, а лишь крепко и спокойно спит.
Первыми о случившемся узнали, ясное дело, соседи, которые тотчас же прибежали, сели рядом с убитыми горем домочадцами и стали вместе с ними оплакивать покойницу. А вместе с рассветом весть о смерти девушки мгновенно облетела всю деревню…
В доме Каро собралось полно народу, и туда пришли все, за исключением семьи Рашо. Людей было столько, что половина была вынуждена остаться во дворе. Все только и говорили о том, как жаль несчастную девушку, которая и жизни толком не успела повидать и вот такой, совсем еще молоденькой, уйдет под холодную землю. Женщины сидели вокруг места, куда положили покойницу, и горько ее оплакивали. Похоронные песни в честь усопшей сменялись причитаниями, потом горестные напевы затягивались снова, и это еще больше разрывало душу бедной матери. Рядом с ней сидели две женщины, которые держали ее за руки и тем самым не давали ей себя истязать. Каро, убитый горем, весь сжался в комок и смотрел в пол неподвижным взглядом. Мужчины, опустив головы, сидели вдоль стены и молча курили.
— Что поделаешь, мой дорогой мрид[4], не падай духом, рядом с тобой сыновья, братья и остальная родня, — с сочувствием обратился к отцу шейх. – Видно, мой Господь полюбил ее больше, чем вы. Такая смерть – это благо.
— Такая смерть – это горе, мой шейх, — послышался приглушенный и хриплый голос одного старика.
— Ну что ты такое говоришь, мой дорогой мрид, не гневи Бога, — возразил шейх. – Это Божья воля, и разве можно ей противиться?
Вдруг среди собравшихся возникло какое-то оживление, некоторые стали перешептываться, а кое-кто и вовсе встал и вышел во двор. Кто был дома, вытянул шею и уставился в окно, кто был на улице, повернулся в ту сторону, откуда раздавался шум, одним словом, люди пригляделись и увидели вот какую картину: Калаш рвется к дому Каро, а двое мужчин не пускают и с трудом отталкивают его назад.
— Убирайся отсюда! Иди домой, чего ты пришел? – говорил один из них. – Мало этим людям своего горя, так еще ты лезешь сюда со своими глупостями?
Калаша еле отвели подальше. Но как только те двое отошли, он снова кинулся в сторону дома Каро, и его невозможно было удержать. Войти туда он не решился, но стал ходить вокруг дома, как помешанный, и громко кричать:
— Это неправда, врут они! Севе не умерла!.. Севе не умерла!..
Очень скоро появился Рашо, которому поспешили сообщить о странном поведении сына. Он торопливо направился к Калашу, чтобы увести сына домой, но ему не удалось даже приблизиться: парень кинулся в сторону, отбежал подальше и с безумными криками стал носиться туда-сюда и кричать одно и то же:
— Севе не умерла!.. Севе не умерла!..
Эти крики были слышны повсюду, и, конечно же, их услышал и Каро с сыновьями. В ярости, они не знали, что им делать, и от злости были готовы разнести всё вокруг. С одной стороны, дома такое горе и полно народу, а с другой – этот негодяй со своими выходками… Каро в бешенстве несколько раз выходил из дома и каждый раз видел одну и ту же картину: Калаш мечется туда-сюда, а за ним гонится отец и никак не может поймать…
Каро еле сдерживался, чтобы не броситься с кулаками на парня, но когда тот, окончательно обезумев, истошно закричал «они нарочно так делают!», Каро больше не выдержал и кинулся в ту сторону. Если бы не несколько мужчин, которым еле удалось остановить разъяренного отца, неизвестно, чем бы всё закончилось.
— Успокойся ты, люди же вокруг… Ладно, он свихнулся, но ты-то в здравом уме!..
Крики Калаша и беготня около дома Каро не прекращались до тех пор, пока не начались похороны. Бедный Рашо окончательно выбился из сил и уже не мог гнаться за сыном.
После полудня тело Севе вынесли из дома, и собравшийся народ двинулся в сторону кладбища. Калаш бежал в том же направлении, но только не со всеми, а той дорогой, которая пролегала чуть выше деревни. Дойдя до свежевырытой могилы, те несколько мужчин, что несли катафалк, опустили его на землю и немного отошли, чтобы женщины еще раз оплакали покойницу. К тому времени Калаш добежал до кладбища и кинулся было к тому месту, где хоронили Севе, но несколько молодых парней преградили ему путь и, отталкивая, отвели его подальше в сторону. И снова послышался его дикий крик:
— Что вы делаете?! Севе не умерла! Вы что, хотите ее заживо похоронить? Севе не умерла!..
Каро и сыновья снова готовы были наброситься на безумца, но мужчины, стоявшие рядом, еле их удержали.
И тогда один из пожилых сельчан шагнул вперед и обратился к Каро:
— Каро, сынок, я очень тебе соболезную и всем сердцем разделяю твое горе. Пусть земля будет ей пухом, не должна была она так рано уходить от нас, но я хочу сказать тебе о другом. Говорят, птица птицей, но и она, когда пьет воду, смотрит наверх и благодарит Бога. Да, мы все знаем о том, что вы кровные враги, но не гневи Всевышнего. Дочери твоей уже нет, но пожалей хотя бы этого парня. Ведь мы все знаем, что они любили друг друга, вот он и сходит с ума, мечется туда-сюда и никак не может поверить. Если ты уважаешь мои седины, разреши, и пусть он придет, увидит всё своими глазами и сам убедится в том, что случилось. Не бери этот тяжкий грех на душу, жалко этого парня, он еще молод. Еще раз прошу тебя: разреши ему прийти и самому во всем убедиться, чтобы потом не было лишних разговоров. Если ты не пустишь, парень может и правда сойти с ума, а если разрешишь, ничего с ним не будет, погорюет, погорюет и успокоится. Прошу тебя, просто умоляю, разреши.
Несколько пожилых мужчин поддержали слова старца и стали убеждать Каро прислушаться к сказанному. Одним словом, Каро согласился, и очень скоро все увидели, как сверху вниз по крутому склону сбегает бедный парень с обезумевшим и блуждающим взглядом. Народ расступился и дал ему дорогу. Стояла мертвая тишина, которую нарушал только плач несчастной матери. Калаш подошел к телу Севе и стал внимательно вглядываться в ее лицо. Его била мелкая дрожь, он стоял неподвижно и безмолвно смотрел на свою любимую. Так, в горьком молчании и гнетущей тишине, прошло несколько минут, и когда покойницу захотели взять и предать земле, он вдруг кинулся на тело, и раздался его душераздирающий крик:
— Горе мне, несчастному! А ведь Севе и вправду умерла!..
Словно в ответ на этот безумный крик труп вздрогнул. Народ в ужасе застыл на месте. Тело шевельнулось еще раз. Те, кто стоял поблизости, шарахнулись в сторону. Шейх втянул голову в плечи и стал медленно пятиться назад. Калаш и мать Севе громко вскрикнули и с воплями кинулись к катафалку, не сводя глаз с покойницы. В этот момент Севе открыла глаза и посмотрела по сторонам. Калаш невольно отпрянул. Мать Севе пошатнулась и упала в обморок. Народ оцепенел от увиденного и не знал, что делать: то ли кинуться к воскресшей Севе, то ли заняться ее матерью, которая лежала без сознания. Ошеломленный Калаш остолбенел и не верил своим глазам. Царило гробовое молчание, и среди этой тишины Севе подняла голову и дрожащим голосом спросила:
— Что случилось?.. Почему я здесь?..
— А когда я говорил, что она не умерла, вы мне не верили! – завопил Калаш и повернулся к потрясенным односельчанам. Бедный парень не знал куда деваться от радости. Он ликовал и то и дело переводил восторженный взгляд с людей, стоящих вокруг, на свою возлюбленную и, позабыв про всякий стыд, смотрел на нее с нескрываемой нежностью и любовью.
Голос ожившей девушки и восторженные крики молодого парня оказались той самой силой, которая заставила мать очнуться, и женщина, придя в себя, кинулась к дочери. Она плакала, обнимала и крепко прижимала ее к себе, словно боялась, что может снова потерять своего ребенка.
— Каро, сынок, — обратился к остолбеневшему Каро тот самый старик, — что ни говори, это неземная любовь. Сам Бог их благословил. Будь благоразумен, послушайся меня и не препятствуй их счастью. Ну и что, что между вами давняя вражда? Может, Бог именно того и хочет, чтобы вы помирились, вот и создал такие обстоятельства. Говори что хочешь, но эти двое должны быть счастливы. Сам посуди: то, что произошло сегодня, – просто невероятно. Никто и никогда не видел и не слышал ничего подобного. Давай прямо здесь, да, именно здесь и сейчас дай свое согласие, что выдашь Севе за Калаша. Разве ты не видишь, что им свыше уготовано быть вместе? Это Божья воля, и ты должен согласиться.
— Поздравляем тебя, Каро! Свет глазам твоим! Всевышний еще никогда и никому не делал такого подарка. Ты должен согласиться, — сказал другой сельчанин.
— Ну, что мне сказать?.. Видно, и правда то Божья воля, — ответил Каро и в некоторой растерянности посмотрел на сыновей. Те радостно улыбались, и по их счастливым лицам было сразу понятно, что они тоже совсем не против. – Что ж, если того захотел сам Бог, разве человек может противиться?
Все от души поздравили Каро и сыновей, и тут Калаш, не мешкая, подошел к Каро и бросился ему в ноги.
— Смерть моя и жизнь моя – всё в твоих руках, дядя, — сказал он. – Как считаешь нужным, так и поступи.
Каро помог ему подняться, поцеловал в лоб и сказал:
— Бог с тобой, сынок, что я могу сказать? Это Бог соединил ваши судьбы, и так тому и быть. Как Бог захочет, так оно и будет.
На кладбище воцарилась невиданная для такого места атмосфера: люди улыбались, радовались и громко, оживленно переговаривались. Первыми оттуда убежали Калаш и его друзья, а за ними потянулись мужчины, которые не переставали шутить, острить и подтрунивать друг над другом. Несколько женщин обступили Севе со всех сторон, прямо на ней разорвали траурное одеяние, каждая из них сняла с себя что-то из одежды и дала ей, чтобы та могла во что-то одеться. И когда облаченную в чужие одежды Севе захотели взять под руки и привести в деревню, оказалось, что бедная девушка еле стоит на ногах и не может сделать хотя бы пару шагов. Быстро послали за телегой, и когда та была на месте, женщины помогли ей подняться, усадили поудобнее, и повозка тронулась в обратный путь.
Могильщики как вырыли могилу, так пустой ее снова и засыпали.
В тот же день состоялось примирение между Рашо и Каро. Многолетняя вражда наконец была прекращена.
Через некоторое время Калаша и Севе обручили, а той же осенью сыграли свадьбу.
Говорят, до самой своей смерти Калаш и Севе верили в то, что именно Бог помог им соединить их судьбы.
… Эта пара дала начало большому роду. Один из их многочисленных внуков стал врачом. Он и объяснил эту невероятную историю с научной точки зрения:
— Ничего сверхъестественного тут нет, — отвечал он на вопросы односельчан. – В тот день моя бабушка очень сильно переживала, и видно, именно из-за этого и впала в летаргический сон. А проснуться ей помог голос дедушки, вот и все. Науке известно много случаев, когда люди засыпали летаргическим сном, который длился не только несколько часов, но дней, месяцев и даже лет. Ну, а в те времена наши бедные сельчане откуда могли знать, что есть такая вещь, как летаргический сон? Поэтому и решили, что случилось какое-то чудо.
И он начинал подробно объяснять присутствующим, что такое летаргический сон …
После этого легенда постепенно стала гаснуть, терять свои краски, увядать и осталась только в сказах, о которых могло поведать лишь старшее поколение.
[1] Севе – от слова «sêv», что по-курдски означает «яблоко».
[2] Пекаск – разновидность съедобной полевой зелени.
[3] Стун – деревянный столб, поддерживающий потолочное перекрытие в курдском сельском жилище.
[4] Мрид – мирянин.
