amarikesardar
HISRETA EMIR (“ЖАЖДА ЖИЗНИ”, 2008)
HISRETA EMIR (“ЖАЖДА ЖИЗНИ”, 2008)
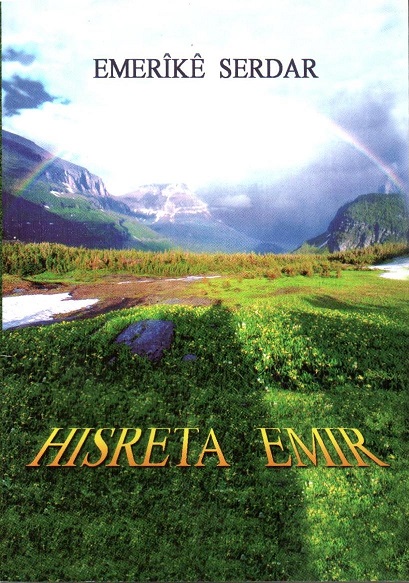 В 2008 году в Ереване по заказу правительства Армения вышел в свет новый сборник рассказов курдского писателя Амарике Сардара на курдском языке «Hisreta emir» («Жажда жизни»).
В 2008 году в Ереване по заказу правительства Армения вышел в свет новый сборник рассказов курдского писателя Амарике Сардара на курдском языке «Hisreta emir» («Жажда жизни»).
Это седьмой по счету сборник рассказов писателя, и к настоящему времени пять из них изданы на курдском языке, а два – на русском и представляют собой перевод с курдского ряда произведений А. Сардара.
В сборник «Жажда жизни» включены рассказы, которые писатель написал за последнее время, а также те произведения, которые в свое время были опубликованы в регулярно издаваемых сборниках произведений курдских писателей и поэтов «Bahara teze» («Новая весна»).
Основная тема произведений нового сборника А. Сардара – это жизнь деревни и ее жителей. Автор хорошо знает эту жизнь и описывает ее читателю в реальных красках. Большое место занимают те рассказы, в которых повествуется о двух мировых войнах, о великодушии нашего народа, о дружбе курдского и армянского народов, о нравах и обычаях курдов, а также о любви, и особенно материнской любви.
В сборник включены и миниатюры, которые в краткой форме раскрывают мысли, чувства и жизненную философию писателя. Новый для курдской литературы жанр литературных шуток также представлен в книге А. Сардара. Написанные на одном дыхании и в легкой, непринужденной форме, они читаются с большим интересом.
В сборнике «Жажда жизни» опубликован отрывок из неоконченного романа писателя «Путь моих предков». В нем повествуется о страшных притеснениях нашего народа, осуществляемых турецким государством в XIX веке и начале XX века. Кроме того, это произведение изобилует описанием подробностей курдского быта, нравов и обычаев курдов, что, несомненно, представляет значительную этнографическую ценность.
Сборник подготовила и редактировала дочь писателя Нура Амарик (Нуре Сардарян).
В книге 184 страницы. Была издана в типографии “Ван Арян”.
ПЕРЕЖИТЬ ВСЁ ЗАНОВО
ПЕРЕЖИТЬ ВСЁ ЗАНОВО
Аслан был плотным, коренастым и смуглым мужчиной с орлиным носом. Его густые черные волосы наполовину закрывали высокий лоб, но не могли скрыть большую родинку, которую природа словно нарочно разместила прямо в центре. На левой руке был небольшой шрам. Лишь спустя много лет Аслан узнал историю его появления: оказалось, что он родился с шестью пальцами и потом, когда он немного подрос, врачи провели несложную операцию и удалили ему лишний палец.
Аслан был женат и имел двоих детей. Жил он недалеко от больницы, где работал хирургом, и это расстояние каждый раз преодолевал пешком, ступая спокойной и размеренной походкой.
Рядом с больницей находился детдом, который был хорошо виден из окна кабинета Аслана. Когда у него выдавалась свободная минутка, он подходил к окну поближе, отодвигал штору и долго вглядывался в это здание странным взглядом, в котором можно было прочесть и любопытство, и тоску, и горечь, и любовь… Когда-то и он жил в детдоме, там он вырос и вступил во взрослую жизнь. И хотя здание, видневшееся из окон его кабинета, было вовсе не его детдомом, Аслан всегда смотрел на него с теплым чувством. Ведь для таких как он каждый детдом похож на другой как братья-близнецы и каждый из них – свой.
Аслан стоял у окна, смотрел на здание напротив, и перед его глазами живо вставали воспоминания, образы его воспитателей и товарищей. За эти непростые годы было все: и хорошее, и плохое, но ассоциации с детством окрасили для уже взрослого Аслана многие печальные воспоминания в гораздо светлые тона, и сейчас, по прошествии стольких лет, они уже не казались такими тягостными и грустными. Но были и другие воспоминания, которые даже со временем не потеряли своей остроты и горечи и продолжали причинять нестерпимую боль. Особенно тяжело приходилось Аслану, когда он вспоминал, как иногда к некоторым сиротам приходили родственники. Взяв с собой детей, они выходили прогуляться с ними по большому саду и угощали их заветными гостинцами – сладостями, конфетами, фруктами. Аслан в такие дни забивался в угол и с тоской и завистью смотрел на тех счастливчиков, к кому пришли гости. У него перехватывало в горле, на глаза наворачивались слезы, и, стараясь, чтобы этого никто не заметил, он быстро выбегал и прятался в каком-нибудь укромном месте. В такие дни Аслан долго не мог уснуть и, ворочаясь с боку на бок, все задавался вопросом: почему к нему никто не приходит – ни отец, ни мать, ни кто-нибудь из родни, пусть даже самой далекой. Родителей своих он не видел никогда и даже не знал, что это за люди, но в своих мыслях старался убедить себя в том, что они есть, они живы, и, может, даже случилось так, что они его просто потеряли и теперь ищут… Ищут и скоро найдут, обязательно найдут и заберут его из этого детдома. Аслан углублялся в эти мечты и уже реально стал верить, что такой день непременно наступит. Но время шло, и все оставалось по-прежнему. К Аслану так никто и не пришел, а он все равно продолжал ждать. Закончив при детдоме школу, он поступил в институт, учился семь долгих лет и выучился на врача, поступил на работу в больницу, женился, стал отцом двух детей… Он все ждал и ждал, но этот день так и не наступил, а напрасное его ожидание оставило в душе тихую боль и горечь.
Каждый раз, стоя у этого окна, Аслан погружался в невеселые мысли и даже мог не сразу заметить появление в своем кабинете сослуживцев или больных. С еще большим трудом ему удавалось сосредоточиться и понять обращенные к нему слова. Сколько бы Аслан ни пытался вспомнить хоть что-нибудь из своего детства, что могло бы помочь ему разузнать о родителях, всякий раз цепочка самых ранних воспоминаний обрывалась у стен детдома, в котором он вырос. Единственное, что он знал, это то, что он родился в больнице, а мать оставила его, ушла и больше не вернулась. Почему не вернулась, что с ней случилось, жива ли она и кто его отец – эти мысли терзали его и не давали покоя. «Тогда шла война, – рассуждал он, – и кто его знает, что могло с ними произойти. Наверное, отец ушел на фронт, а с мамой все-таки что-то случилось». В который раз Аслан повторял эти мысли, в который раз твердил себе, что, наверное, так все и было, но что-то очень тонкое и неуловимое подсказывало ему, что все не так просто. В душе появлялось какое-то странное и необъяснимое чувство, от которого Аслану становилось неуютно и неспокойно, словно что-то в самом далеком уголке сердца мешало ему полностью верить в эти вполне логичные рассуждения.
Он знал, что имя и фамилия, которые он носит, не настоящие, а присвоенные ему в детдоме. Но, несмотря на это, он все равно пытался разыскать родителей и писал обращения в разные инстанции. Однако несколько лет безуспешных поисков смогли все-таки убедить Аслана оставить эти попытки и забыть о своей надежде. Но только до поры, до времени…
* * *
Однажды вечером на машине скорой помощи в больницу доставили женщину. Она была в тяжелом состоянии, без сознания, и ей срочно требовалась операция. Аслан в тот день был дежурным. Он распорядился немедленно подготовить операционную, а тем временем сам спешно подготовился и сам же провел эту сложную операцию, которая длилась несколько часов. После ее окончания Аслан, устав от долгого напряжения, прошел в свой кабинет и с тяжелым вздохом, но не без облегчения, опустился в уютное и мягкое кресло в предвкушении заслуженного отдыха. Не успел он откинуться на спинку и закрыть глаза, как заглянула медсестра и сказала, что родня прооперированной женщины стоит в коридоре и с нетерпением ждет его.
— Иди и скажи им, что все прошло хорошо, пусть не волнуются, – сказал Аслан.
Медсестра ушла, но очень скоро вернулась.
— Доктор, – обратилась она к Аслану, – они ждут вас и именно от вас хотят услышать новости о состоянии своей больной. Я, правда, сказала им, что все хорошо, но они как будто мне не верят и настаивают, чтобы к ним подошли именно вы.
Аслан был таким уставшим, что не мог заставить себя сдвинуться с места. Несколько минут он так и просидел с закрытыми глазами, но потом вдруг остро ощутил дискомфорт оттого, что люди ждут его с таким нетерпением, а ему даже лень подняться с места. Сделав над собой усилие, он рывком встал и быстро вышел из кабинета. Ожидавшая его группа людей, заметив появление врача в белом халате, оживилась и направилась к нему. Впереди всех был высокий мужчина лет пятидесяти, рыжеволосый и худощавый.
— Ну, как, доктор? Как она? – спросил он с нетерпением, крепко пожимая Аслану руку и с надеждой заглядывая ему в глаза.
— Все в порядке, – спокойно ответил Аслан, – операция прошла успешно. Сейчас нужно дождаться, чтобы миновал послеоперационный кризис. Мне кажется, она женщина крепкая и справится, так что не беспокойтесь. Самое главное, что угрозы для жизни больше нет. Вы вовремя ее привезли.
— Спасибо, спасибо вам, доктор, – со слезами на глазах сказал мужчина и от волнения даже не заметил, что, пожимая в приветствии руку врача, так и не отпустил ее и продолжал энергично трясти. – Я ее муж, а это наши дети, – он кивнул на миловидную девушку и молодого парня, которые стояли рядом. – Спасибо вам, вы такое сделали сегодня… Вы спасли мне жену и мать этим детям. Благодарю вас, доктор, пусть хранит Бог вас и вашу семью.
— Ну, что вы, – ответил Аслан, – это наш долг.
— А как она сейчас? Уже пришла в себя?
— Нет, она сейчас под действием наркоза, – ответил Аслан, – и очнется еще не скоро. Но не волнуйтесь, все в порядке, так и должно быть.
— А можно, чтобы сегодня на ночь с ней осталась дочь?
— Нельзя. У нас запрещено, чтобы за больными ухаживал кто-то не из медицинского персонала. Да вы не волнуйтесь, у нас очень хорошие медсестры, они и присмотрят за ней. А вы идите домой, вам нет смысла оставаться здесь на ночь. Идите, отдохните, а завтра с утра можете прийти и узнать, как ваша больная.
Мужчина еще раз поблагодарил Аслана и только потом спохватился, что продолжает пожимать доктору руки, смутился и, виновато улыбнувшись, попрощался и вместе с остальными родственниками двинулся к выходу.
Аслан вернулся в свой кабинет и снова уселся в свое уютное кресло. Но на этот раз его никто не побеспокоил, и ему удалось немного отдохнуть. Выпив чашечку ароматного кофе, он окончательно взбодрился и решил пройтись по палатам и посмотреть, как там его пациенты. Первым делом Аслан направился в палату, где лежала поступившая этим вечером женщина – та, которой он сделал операцию. Дежурная медсестра сообщила, что пока она не пришла в себя и что температура у нее невысокая. Аслан взял женщину за запястье, нащупал пульс и, глядя на часы, стал отсчитывать количество ударов. Сердце работало хорошо. Потом взглянул на лицо этой женщины, и что-то в нем ему показалось знакомым. Ее волосы почти полностью поседели, нос был крупным, на скулах играл румянец, и от нее, несмотря на закрытые глаза, исходило какое-то неуловимое обаяние. Глядя на выражение ее лица, на глубокие морщины на лице, на натруженные руки и смуглость кожи, можно было догадаться, что этой женщине по жизни приходилось нелегко. Аслан и сам не понимал, почему ему так приглянулось лицо этой незнакомки, и он смотрел на нее с каким-то теплым чувством и симпатией. Постояв у ее кровати некоторое время, Аслан дал медсестре несколько указаний и вышел, продолжая свой ночной обход.
Вернувшись в кабинет, Аслан снова вспомнил про новую пациентку. Как он ни старался, так и не мог вспомнить, где он мог ее раньше видеть. И не то, чтобы ее лицо было ему знакомо, скорее, в нем было что-то такое, что сразу же вызвало в его сердце приятное чувство – светлое и в то же время непонятное и необъяснимое.
Аслану вдруг захотелось узнать поподробнее об этой женщине, и он, позвав медсестру, попросил принести ее историю болезни. Пробежав глазами по первой странице, он лишь смог узнать, что она живет в деревне, замужем и домохозяйка. Отложив бумаги в сторону, он поймал себя на мысли, что слишком много думает об этой женщине. Почему – он и сам не мог понять и, словно стараясь найти ответ на этот вопрос, снова встал и направился к ней в палату. Там как раз была дежурная медсестра, которая сказала, что больная на несколько минут пришла в себя, была неспокойна, температура немного повысилась, и ей был сделан укол, после чего она спокойно заснула. Аслан слушал медсестру, а сам не отрывал взгляда от лица той женщины и постепенно убеждался в том, что прежде никогда ее не встречал и, видимо, с кем-то спутал. Немного успокоившись, он вышел из палаты и снова вернулся к себе. До конца дежурства оставалось еще несколько часов, и Аслан решил вздремнуть. Стараясь отогнать от себя мысли, которые донимали его весь вечер, он попытался расслабиться и уснуть, но лицо поступившей больной не давало ему покоя. Однако усталость в конце концов взяла свое, и Аслан незаметно для себя впал в дрему и уснул. Ему приснился странный сон: как будто он еще в детдоме и играет со своими товарищами в какую-то игру. Вдруг заходит воспитатель и говорит, что к нему пришли родители. Выскочив за дверь, он оглядывается, но кругом никого нет – коридор пуст. Разочарованный, он возвращается обратно и вдруг видит, что в комнате вместо воспитателя сидит та женщина, которую он сегодня прооперировал. Она сидит спиной к Аслану, и он зовет ее, но она молчит и не двигается с места. В этот момент вдруг открывается дверь, заходит директор детдома, берет его за руку и силой хочет увести из этой комнаты. Аслан упирается, кричит, сопротивляется, цепляется за двери, но директор продолжает его тащить к себе в кабинет и уже не тянет, а волочит его по полу…
Аслан в ужасе проснулся и долго не мог прийти в себя. Тщетно пытаясь заснуть снова, он поворачивался с боку на бок, и невольно ему вспомнился один эпизод, связанный с детдомом: один из его воспитанников так бессовестно оболгал его, что директор собственноручно притащил его в свой кабинет и отвесил несколько увесистых затрещин. Аслан уже давно позабыл, из-за чего все это случилось, но душевную боль, причиненную несправедливым наказанием, запомнил на всю жизнь. «Смотри-ка, а ведь плохое не забывается никогда, – с вздохом подумал Аслан. – И сколько ни прошло бы лет, оно все равно дает о себе знать. Да… память – штука сложная… И при чем тут новая больная?..»
Так рассуждая, Аслан и сам не заметил, как веки его опустились, и он проспал до самого утра без всяких снов и кошмаров.
Проснувшись, он первым делом направился в палату новой больной.
— Ну, как вы себя чувствуете, Гуле? – обратился к ней Аслан по имени, которое запомнил, когда листал историю болезни.
— Спасибо, доктор, – слабым и уставшим голосом ответила Гуле. – Ну, что мне сказать? Вам виднее…
1 2 3 4 5 6 7 8
НЕБЛАГОДАРНЫЙ
НЕБЛАГОДАРНЫЙ
Мамэ остался круглым сиротой. Отец погиб на фронте, мать вскоре после похоронки умерла, и его забрал к себе и воспитывал как собственного сына его дядя Касым – брат отца.
Было трудное послевоенное время. Касым еле сводил концы с концами, но даже при таком их тяжелом положении жена не смела обронить хотя бы одно худое слово в адрес Мамэ.
— Он наследник моего брата, – говорил Касым, – и лучший кусок – для него. Пока его дядя жив, он не допустит, чтобы племянник хоть в чем-нибудь нуждался.
У самого Касыма сыновей не было. К дочерям своим он был довольно равнодушен, считая их гостями в отцовском доме, и частенько повторял:
— Они здесь временно. Завтра-послезавтра выйдут замуж и уйдут в другие семьи. Мамэ – вот кто наш наследник. Он и продолжит род моего отца.
Жене эти слова не нравились, но она не осмеливалась перечить мужу и все обиды глотала молча.
Касым же делал для племянника все, что мог. Как выпадала возможность, он покупал для Мамэ новую одежду, собственноручно шил ему такие чарыхи, которые были ничем не хуже готовой обуви. Он даже закрывал глаза на то, что Мамэ постоянно придирался и обижал его дочерей. Не составляя себе труда хоть немного разобраться в их детских конфликтах, Касым неизменно становился на сторону племянника и всегда наказывал только дочерей.
— Этот ребенок остался без родителей! И я не допущу, чтобы он хоть на минуту почувствовал себя в моем доме сиротой, понятно вам? – грозил дочерям пальцем и, повернувшись к племяннику, ласково обнимал его и ерошил волосы.
* * *
Мамэ подрос и пошел в школу. Касым купил ему новую одежду, пару новых туфель (это были первые туфли в их доме – вся семья по-прежнему носила только чарыхи), взял племянника за руку и отвел в школу.
И хоть деревня была небольшой и Мамэ знал в ней каждый переулок и закоулок, Касым всякий раз до окончания уроков направлялся к школе, ждал, пока Мамэ выйдет, потом, взяв в одну руку портфель, а в другую – руку Мамэ, приводил его домой. Жена быстро накрывала на стол, и пока Мамэ ел, Касым сидел напротив и смотрел на него счастливым и умиротворенным взглядом.
Так продолжалось несколько лет. Мамэ, которому стало надоедать то, что дядя постоянно приводит и уводит его со школы, нередко говорил ему:
— Я что, маленький и не найду обратной дороги? Зачем ты приходишь?
— Я ведь волнуюсь за тебя, – с отеческой заботой отвечал Касым. – А что в этом такого, если твой дядя приходит за тобой? Тебе что, стыдно?
— Конечно, стыдно. Надо мной уже смеются все ребята. Они говорят: ты что, потеряешься в деревне, раз твой дядя вечно приводит и уводит тебя?
— Ну, ладно, ладно, – усмехнулся Касым, когда в последний раз об этом зашел разговор. – Если ты так стесняешься, я больше не буду приходить за тобой, – и добавил, глядя на племянника со счастливой улыбкой. – Слава Богу, ты у меня уже большой, смышленый…
Сам Касым был неграмотным, но с большим уважением относился к наукам. Он постоянно расспрашивал учителей, справляется ли Мамэ с учебой. Они не жаловались, но этого Касыму было мало. Иногда он приходил в школу и, получив у учителя разрешение, садился в классе, где у Мамэ шел урок, и просил учителя при нем опросить племянника, чтобы самому убедиться, готов ли он к уроку или нет. В самом начале Мамэ ужасно стеснялся таких проверок, которые публично устраивал ему дядя. Не нравилось это и учителям, но со временем и Мамэ, и они привыкли и стали относиться к этому как к чему-то привычному и обыденному.
Каждый вечер Касым садился рядом с Мамэ, ставил на стол, за которым занимался племянник, керосиновую лампу и следил, чтобы ее свет хорошо освещал страницы. Не было ни одного раза, чтобы Касым не попросил племянника прочесть ему вслух что-нибудь из заданных уроков. Мамэ мог делать это часами, а Касым с большим интересом сидел рядом и слушал.
Ревностно следя за тем, чтобы племянник хорошо учился, Касым полностью освободил его от какой-либо работы по хозяйству.
— Ты лучше занимайся. Тебе учиться надо, – часто повторял Касым.
Их семья держала несколько овец. Утром рано, когда нужно было открыть хлев и выпустить овец с ягнятами в общее стадо на выпас, это делали Касым или его жена. О том, чтобы такое нехитрое поручение выполнял Мамэ, не могло быть и речи.
— Он еще ребенок, пусть спит, – повторял Касым и никогда не пускал, чтобы племянника разбудили пораньше.
Примерно то же самое повторялось днем, когда животные возвращались с пастбищ. Их пригоняли домой дочери Касыма, а Мамэ в это время либо учил уроки, либо бесцельно слонялся по дому.
Весной и летом, когда не было занятий, Мамэ с товарищами с самого утра уходили в поле или на речку и пропадали там целый день. О доме вспоминали только тогда, когда становились голодными. Заскочив туда на несколько минут, они быстро ели, потом снова убегали и возвращались не раньше, чем начинало темнеть.
Если в деревню привозили на продажу фрукты, как дорого они бы ни стоили, Касым покупал их и следил, чтобы Мамэ ел их столько, сколько хотел. Очень часто из-за этого он даже отказывался от своей доли, и о его трепетном отношении к племяннику говорила вся деревня:
— Настоящий дядя должен быть таким. Хвала такому роду. Даже если отец был бы жив, вряд ли он смог бы так хорошо смотреть за сыном, как это делает Касым. Хвала ему!
* * *
Мамэ рос без забот, без хлопот. Это, конечно, раздражало жену Касыма, как и то, что он постоянно придирался к ее дочерям и мог запросто поднять на них руку. Она злилась, но не смела в присутствии мужа сказать в адрес Мамэ хоть одно лишнее слово. Однако стоило Касыму ненадолго отлучиться, как она давала волю чувствам. Правда, до скандалов у них не доходило, но недовольный вид, придирки и раздраженный тон жена дяди скрывать от Мамэ не собиралась. В такие моменты он старался поскорей уйти из дому, и среди товарищей ему было легче забыть очередную неприятную домашнюю сцену. О ее поведении Мамэ дяде ничего не рассказывал, потому что знал точно: если Касым узнает, он ее изобьет, и тогда уж точно она окончательно его возненавидит. А этого ему совсем не хотелось: как-никак они жили под одной крышей, и ссориться с хозяйкой дома он не желал.
* * *
Прошло несколько лет. Мамэ окончил среднюю школу, и в тот день Касым вручил ему очень дорогой и редкий для тех времен подарок – наручные часы.
— А это тебе от меня в честь окончания школы, – сказал Касым, надевая часы на запястье племянника, и, притянув его за шею, поцеловал и потрепал по щеке. – Но на этом не останавливайся. Ты должен учиться дальше. Все, что для этого будет нужно, я сделаю, ты ни о чем не думай. Твой дядя, слава Богу, жив и не допустит, чтобы у тебя возникли хоть какие-нибудь трудности. Ты наш наследник, и если не для тебя, то для кого мне еще стараться? Может, для этих? – и Касым небрежно протянул руку в сторону дочерей, которые стояли в сторонке и с завистью смотрели на часы, красовавшиеся на руке Мамэ. – Ведь завтра-послезавтра они уйдут отсюда и станут членами чужих семей. А ты – другое дело. Ты наш наследник и именно ты продолжатель нашего рода.
Жена Касыма бросила на мужа взгляд, полный ярости, потом посмотрела на дочерей и, увидев их такими жалкими и съежившимися, резко встала и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Дочери последовали за ней.
— Ну, зачем ты так, дядя, – сказал Мамэ. – Не обижай девочек.
— А меня, думаешь, Бог не обидел? – ответил с горечью Касым. – Обидел, еще как обидел… Если бы не обидел, то не лежал бы сейчас твой отец в холодной могиле, а мне бы Бог послал хотя бы одного сына… А ты говоришь…
— Все равно, при чем тут девочки, – отозвался Мамэ.
Касым ничего не ответил. Он и сам знал, что дочери тут ни при чем, просто в тот момент ему хотелось выговориться и облегчить свое сердце.
К дочерям Касым был равнодушен, но они, несмотря на это, все равно очень любили его и относились к нему с большой заботой. Стоило ему заболеть, как они не отходили от его кровати ни на шаг и делали все, чтобы отец быстрее поправился. Но их теплое отношение ровным счетом ничего не значило для Касыма. Как говорится, душа его была там, где ступала нога Мамэ.
Конечно, все это избаловало Мамэ и испортило его характер. Ему казалось, что все, что делает для него дядя, само собой разумеется, и потому поступал так, как ему хотелось. Запретов для него не существовало.
Мамэ не горел желанием учиться дальше, но Касым думал иначе. Именно он настоял на том, что племянник должен непременно поступить в институт, и, продав двух овец, Касым отдал эти деньги Мамэ и послал в город готовиться и сдавать экзамены. Мамэ уехал и, вернувшись через месяц, объявил, что поступил в институт и что теперь он студент.
Касым был счастлив.
— Ты только учись, – повторял он, – и ни о чем не думай! Дядя твой, слава Богу, не умер и все, что будет нужно, для тебя сделает.
Мамэ на несколько дней остался дома. За это время семья Касыма помогла ему собраться в дорогу. Жена и дочери выстирали ему всю одежду, привели ее в порядок, приготовили немного еды, а Касым пошел по деревне занимать деньги. Взяв у кое-кого в долг, он вернулся довольный и, бережно вынув деньги из кармана, передал их племяннику.
Настал день отъезда Мамэ. Проводив его до дороги, Касым поцеловал его на прощание и долго смотрел вслед удаляющемуся автобусу. Несколько слезинок выкатились из его глаз и попали на густые усы. Достав из кармана платок, Касым со вздохом вытер глаза, покачал головой и сказал самому себе:
— Ах, если бы брат был жив и видел все своими глазами… Что, мир перевернулся бы?..
И с понурой головой и неуверенной походкой возвратился в деревню.
Раз в месяц Касым уезжал в город навестить племянника. Уже за несколько дней до этого жена начинала хлопотать: готовила побольше халвы, пекла гату, доставала из запасов самый лучший сыр и заворачивала его в несколько лавашей, а если в деревне было еще и мясо на продажу, она отваривала несколько крупных кусков мякоти. Все приготовленное складывалось в большой чемодан, и с этой тяжелой поклажей Касым каждый раз ездил в город. С приближением холодов к продуктам прибавлялись шерстяные вязаные носки, варежки, шарф, а также теплое одеяло.
Касым приезжал в город, добирался до того места, где жил Мамэ, разгружал свой чемодан, садился рядом и начинал подробно расспрашивать его о делах, учебе и товарищах. Потом обстоятельно и подробно рассказывал племяннику все деревенские новости, хлопоты по хозяйству, новости о родственниках… И так до самого позднего вечера. Собираясь обратно, Касым никогда не пускал, чтобы Мамэ хоть раз его проводил:
— Ни в коем случае! Ты лучше отдыхай, тебе ведь с утра надо на уроки. А за меня не беспокойся, что со мной случится? – говорил он, целовал Мамэ на прощание и, пожав руки его товарищам, уходил.
Мамэ провожал дядю до двери, возвращался в комнату и принимался разворачивать бережно и аккуратно завернутые свертки с едой. Потом ставил все это на стол, приглашал товарищей, и они всей компанией начинали с аппетитом уписывать за щеки одно лакомство за другим.
— Ну, надо же… – жуя ароматную халву, говорил один. – Вот у меня, например, отец жив, но он никогда не делал для меня столько, сколько делает для тебя твой дядя. Повезло же тебе…
— Да уж… – подхватывал другой их товарищ. – Ты всю жизнь будешь ему обязан. Интересно, сможешь ли ты когда-нибудь вернуть этот долг, а? – и, не дожидаясь ответа, добавлял: – Мне кажется, как человек всю свою жизнь бывает обязан родителям, так и Мамэ всю жизнь будет обязан своему дяде. Нет, клянусь, это не дядя. Такой человек роднее и ближе отца. Так или не так? – поворачивался он к Мамэ, но тот, не переставая жевать, лишь поглядывал на него с хитрой улыбкой и ничего не отвечал.
1 2 3 4 5 6 7
МЕЛОДИЯ В УЩЕЛЬЕ
МЕЛОДИЯ В УЩЕЛЬЕ
Авдал был лучшим музыкантом в деревне. Он замечательно играл на зурне и флейте и к тому же обладал прекрасным голосом. Без него не обходилось ни одно празднество не только в его деревне, но и во всей округе. За ним специально посылали, и Авдал, никому не отказывая, умудрялся везде поспеть.
— И что бы вы делали без нашего Авдала? – шутили его односельчане с очередными посланниками.
Авдал всегда был главным героем любого праздника и лучшим украшением говянда[1]. Он мог и играть, и танцевать, и петь. Нередко случалось так, что по просьбе односельчан он прерывал свою игру на зурне и становился в начало говянда. Вынув из кармана платок, он взмахивал им, запевал очередную веселую песню и с азартом пританцовывал, ведя за собой весь говянд. Он пел один и никогда при этом не пускал, чтобы кто-нибудь, как это принято при исполнении танцевальных песен, ему подпевал.
Под пение Авдала говянд совершал несколько кругов. Потом музыкант оставлял танцующих и вновь брал в руки зурну, продолжая наигрывать мотив только что прерванной песни. Его пальцы выводили мелодию так сладко и нежно, что присутствующим казалось, что песня и не обрывалась. Но всю утонченность и богатство курдской музыки можно было представить себе полностью, лишь прислушавшись к его игре на флейте. Закрыв глаза, он окунался в широкие просторы чудесной мелодии и плыл по ее волнам, увлекая за собой присутствующих. Тот праздник, на котором бывал Авдал, действительно превращался в праздник музыки, и ни один не был похож на другой ни своими напевами, ни нюансами.
Авдалу было около пятидесяти лет. Это был мужчина маленького роста, рябой, с замечательным чувством юмора и очень добрый. Душа его была так же чиста, как и его музыка. У него были большие черные глаза и такая же черная шевелюра без единого седого волоса. Его, конечно, нельзя было назвать красавцем, но хороший характер и музыкальный дар заставляли людей забывать о недостатках его внешности и делали Авдала в их глазах очень даже привлекательным и приятным. Он нравился многим молодым женщинам, но Авдал, чувствуя это, никогда не позволял себе лишнего, потому что был женат и ему не хотелось стать объектом лишних разговоров и сплетен.
Несмотря на то, что Авдал был человеком среднего возраста, его музыкальная душа всегда стремилась туда, где была молодежь. Обществу своих ровесников и людей постарше он всякий раз предпочитал молодые и веселые компании.
— Со стариками сидишь – стареешь, а с молодыми – молодеешь, – любил повторять он.
Ни один день в его жизни не обходился без музыки. Даже зимой, в сезон временного затишья и отсутствия свадеб, он играл, сидя у себя дома. На звуки музыки туда стекалась молодежь, и Авдал, перемежая игру на зурне и флейте с пением, не переставал шутить с гостями, и его дом в такие часы всегда был наполнен смехом и весельем.
Стоило какому-нибудь парню выразить желание научиться играть, Авдал с радостью соглашался помочь. Он садился, велел ученику встать сзади, брал в руки зурну или флейту и просил кого-нибудь из присутствующих привязать длинной нитью каждый палец ученика поверх каждого его пальца. Когда все было готово, музыкант начинал играть, и привязанные пальцы новичка, двигаясь вместе с пальцами учителя, в точности повторяли все его движения. Авдал играл до тех пор, пока пальцы у парня не немели, и тогда он разрешал размотать нить и давал своему ученику немного отдохнуть. После этого Авдал давал ему в руки инструмент и говорил ему сыграть ту же мелодию. И пока тот играл, мастер один за другим указывал ему на промахи, объяснял, почему тот допустил ошибку, и заставлял наигрывать эту же мелодию снова и снова. Именно таким методом Авдал и обучил нескольких парней игре на зурне и флейте, но все равно – им было слишком далеко до мастерства учителя…
По вечерам, когда сельчане собирались у кого-нибудь в доме на посиделки, Авдал, направляясь туда, обязательно прихватывал с собой зурну или флейту, будучи уверенным в том, что его непременно попросят что-нибудь сыграть. И действительно, стоило хоть одному из собравшихся обратиться к нему с этой просьбой, Авдал не давал себя долго уговаривать и, достав из кармана инструмент, начинал играть.
Весной и летом Авдал собирал вокруг себя молодежь и вместе с ними направлялся в горы. Компания проводила там долгие часы, и издалека можно было услышать то звуки зурны, то флейты, то сильный и красивый голос самого Авдала. Устав петь, он обычно ложился прямо на траву и, глядя на безоблачное небо, говорил:
— А ведь музыка так же чиста и ясна, как это небо… И почему только у людей нет крыльев, как у птиц, чтобы свободно в нем парить? – и Авдал глубоко вздыхал, потом закрывал глаза и долго лежал неподвижно. – А знаете, – и Авдал, встрепенувшись, приподнимался на один локоть и продолжал. – Ведь музыка и пение лечат душу и гонят тоску и печаль прочь. Разве вы не почувствовали, что музыканты стареют поздно? Мне кажется, это из-за музыки. И для того, чтобы я быстро не состарился, сыграю-ка я сейчас для вас одну хорошую мелодию, – улыбнувшись, говорил он и брал в руки свою зурну.
Ее звуки раздавались в горах гулким эхом, и казалось, что музыка льется со всех сторон. Парни, не выдерживая, вскакивали и, взявшись за руки, начинали танцевать. Зурна Авдала была так хороша, что отсутствие дафа[2] даже не чувствовалось, и молодежь в упоении танцевала до позднего вечера. Возвращение же в деревню всегда выглядело одинаково: впереди шел Авдал, не переставая играть на зурне, а за ним тянулись все остальные – подуставшие, но очень довольные и оживленные.
Можно сказать, что музыка и пение помимо всего прочего были Авдалу и работой. Молодые парни пошустрее включили его в свою колхозную бригаду, но разве кто-то допустил бы, чтобы Авдал к чему-нибудь притронулся?
— Ты только пой и играй, а остальное уже не твое дело, – говорили они ему по дороге в поле.
— Вы думаете, вы останетесь внакладе? – усмехаясь, говорил им Авдал. – Нет, мои дорогие. И вам будет выгодно, и мне…
И обе стороны принимались за дело. Под музыку Авдала, под его чудный голос молодые ребята так быстро и с таким азартом собирали скошенное и высушенное сено, что никто не чувствовал никакой усталости.
Наставало время обеда, и после того, как все подкрепились, Авдал доставал свою флейту и, улыбнувшись, поворачивался к своей бригаде:
— А это я сыграю вам для души, – и, бросив в сторону лукавый взгляд, небрежно ронял: – И что бы вы без меня делали?
— А что бы ты делал без нас? – тут же парировал один из молодых, и все кругом заливались от смеха.
— Что правда, то правда, – смеясь со всеми, говорил Авдал. – И я без вас не могу, и вы без меня не можете.
Вечером, закончив работу, дружная компания в сопровождении музыки возвращалась в деревню. По их веселым лицам невозможно было догадаться, что эти люди весь день провели в поле, под палящим солнцем и за тяжелой работой. Все выглядели бодро и в прекрасном настроении, но самым довольным выглядел Авдал. Его душа, плененная музыкой, отрывалась от земных невзгод и, как волшебная птица, взмывала в чистое небо над горной деревней и свободно в нем парила.
Работу Авдала по хозяйству тоже нередко брала на себя деревенская молодежь. Увидев его за каким-нибудь занятием (пахотой, севом, прополкой картофеля, косьбой или сбором сена), они спешили к нему, отводили в сторону, усаживали и, попросив его сыграть или спеть им что-нибудь, продолжали начатую им работу с большим усердием.
Авдал был украшением деревни. Его любили и уважали все – от мала до велика, а он, влюбленный в свою музыку, в свою деревню и особенно в молодое ее поколение, не мыслил без них себе жизни.
* * *
У Авдала был единственный сын – худой болезненный мальчик. Едва достигнув подросткового возраста, он тяжело заболел, и к каким только докторам ни водил сына Авдал, сколько бы ни укладывал мальчика в больницы – все равно: ребенок с каждым днем угасал на глазах. Через некоторое время мальчик умер.
Смерть сына стала для Авдала тяжелейшим ударом. Он метался по дому с горькими вздохами и стонами, убивался и не находил себе места.
На похоронах было полно народу – пришли не только все односельчане Авдала, но и очень многие из соседних деревень. Его знали и уважали все, и вся округа, узнав о постигшем его горе, спешила выразить свое сочувствие.
Мальчика похоронили с соблюдением всех обрядов. Но поток людей к дому Авдала не прекращался: еще очень многие продолжали приходить с соболезнованиями даже спустя некоторое время после похорон.
Со смертью мальчика Авдала словно подменили. Это был уже совсем другой человек – нелюдимый, хмурый и подавленный. Он сторонился даже молодежи, без которой раньше себя не мыслил. Но все хорошо понимали его душевное состояние и надеялись, что нужно время и только время, чтобы эта рана могла затянуться.
* * *
Было начало лета. Горы вокруг деревни преобразились и превратились в великолепное зрелище: устланные густым зеленым покровом, местами они пестрели яркими красками диких цветов. Молодежь с утра до вечера пропадала в поле, девочки и девушки собирали съедобные травы, а пастухи, присматривая за стадом, наигрывали на своих флейтах и свирелях красивые и нежные мелодии. Отовсюду слышалось щебетание птиц, которое, смешиваясь со звуками музыки, шумом травы и звонкими задорными голосами, превратилось в чудесную симфонию и настоящий гимн изумительной по своей красоте природе.
Трудно было усидеть дома, когда вокруг было такое великолепие. И Авдал, выйдя за порог, оглядел задумчивым взглядом цветущие луга, посмотрел на эту манящую красоту и, не выдержав, направился в сторону Черной горы. Он шел медленно, оглядываясь вокруг взглядом, истосковавшимся по ярким и живописным краскам ожившей природы, и не мог насмотреться. Скрывшись из виду за горным склоном, он спустился в ущелье и дошел до поляны, больше похожей на большой пестрый ковер, сотканный из тысячи разноцветных нитей. Авдал присел на траву, снял шапку, со вздохом прилег, прикрыв от солнца глаза рукой, и посмотрел на чистое, ясное небо.
Авдала, направляющегося в сторону гор, заметили несколько молодых ребят, слонявшихся без дела на краю деревни. Они удивленно переглянулись, и один из них, самый любопытный, тут же выпалил:
— Может, пошел в соседнюю деревню?
Остальные в ответ лишь пожали плечами и промолчали.
— Давайте дождемся и посмотрим, когда он вернется, – не унимался он, и все согласились.
Усевшись поудобнее, компания принялась о чем-то болтать, не переставая при этом посматривать в сторону, куда недавно ушел Авдал. Но время шло, а тот все не показывался, и парни понемногу начали терять терпение.
— Куда он подевался? Может, он прошел по оврагу и вышел с другой стороны? – предположил один из них.
— Зачем ему овраг? Там одни голые скалы.
— Не скажи, – покачав головой, сказал другой паренек, черненький и невысокий. – В этом году на тех голых скалах такая зелень выросла… Аж до самых верхушек…
Так, за разговорами и предположениями молодежь коротала время, но ожидание затянулось настолько, что терпение потеряли даже самые стойкие. Солнце уже заходило за горизонт, как вдруг наконец показался Авдал. С шапкой в руках и высоко поднятой головой, он шел быстро и уверенно, но показавшаяся вдалеке деревня словно вернула Авдала к реальности: он весь сник, и у него сразу потух взгляд. Растерянно надев шапку, он опустил голову, сбавил шаг и уныло побрел по направлению к своему дому.
Не сводя с него взгляда, деревенские парни ждали, что же будет дальше, но ничего особенного не произошло: Авдал подошел к своему дому, присел на большой плоский камень у двери и, сняв шапку, вытер вспотевшее лицо. Жена на мгновение выглянула, увидела, что он вернулся, зашла домой, но через минуту вернулась с кружкой воды и с полотенцем. Авдал тщательно умылся и, вытирая лицо, зашел домой. За ним последовала и она.
— И что он с утра до вечера делал на этой поляне? – удивился тот чернявый паренек.
И опять все в недоумении пожали плечами – никто ничего не понимал, и все терялись в догадках. В парнях проснулся азарт: во что бы то ни стало выяснить, куда и зачем ходит Авдал.
Все сошлись на том, что за ним нужно проследить, и, как решили, так и сделали.
Через несколько дней Авдал снова пошел к ущелью. И после того, как он опять скрылся из глаз, парни подошли поближе к ущелью и, спрятавшись в ложбине, стали ждать, что же будет дальше. Все было тихо, и только щебетание птиц и свирель пастуха нарушали эту тишину.
Прошло немного времени, как парни услышали доносящийся откуда-то очень близко голос. Он звучал тихо, но показался им поразительно знакомым.
— Это голос Авдала, – сказал тот невысокий парнишка.
— Ты что, с ума сошел? – возмутился один из парней постарше. – Да разве Авдал со своим разбитым сердцем позволит себе такое?
— Да и вообще – как можно петь, имея такое горе? – вмешался другой.
— Ш-ш-ш… Послушайте, – и тот черненький юноша, невольно вытянув руку вперед, застыл, вслушиваясь в слабое звучание знакомого голоса.
— Ну, раз ты включил свою антенну, то можно не сомневаться, что ты сразу определишь, чей это голос, – кто-то выпалил так бойко, что все покатились со смеху. Но тот смуглый парень не обращал ни на кого внимания и продолжал напряженно прислушиваться.
Вдруг голос резко оборвался. Прождав довольно долго, компания так ничего и не услышала: кругом стояла полная тишина.
— Да похороню я эту свою голову, если это не голос Авдала! – воскликнул чернявый, в сердцах ударив себя по колену. – Что я, голоса его не знаю, что ли?
— И не жаль эту землю, чтобы она приняла твою пустую голову? – посмеиваясь, сказал один из парней и вызвал новый приступ всеобщего веселья. – Соображать надо! Как может убитый горем человек, похоронивший совсем недавно своего единственного сына, сидеть и распевать что-то!
— Да что ты в этом понимаешь? – разозлился тот темненький юноша. – Кто-кто, но ты хоть молчи! У тебя ни слуха, ни мозгов нет! Ты даже не можешь различить пение соловья от рева осла! – и компания снова покатилась со смеху. – Забыл, сколько раз Авдал тебе говорил, что твой музыкальный слух никуда не годится?
Они еще долго бы пререкались, если бы их не остановили парни постарше:
— Да прекратите вы, хватит, сколько можно? Дайте послушать…
Но кругом царила тишина, и вся компания напрасно прождала этот голос до самого вечера.
После ухода Авдала все поднялись и тоже засобирались обратно.
— И все-таки зря мы не подошли поближе, – покачав головой, сказал черненький парень.
— А вдруг он нас заметил бы? Как бы мы стали оправдываться?
— Придумали бы что-нибудь, – не унимался тот.
— Вот к завтрашнему дню и придумаешь, – сказали ему остальные и договорились, что завтра снова пойдут за Авдалом и не спустят с него глаз ни на минуту.
На следующий день вся группа, крадучись, приблизилась к тому месту, где был Авдал. Он лежал на спине и смотрел на небо. Потом вдруг резко встал, присел, оглянулся и, увидев, что никого рядом нет, тихо запел песню «Алыко, лао».
— А когда я вам говорил, что это Авдал, вы мне не верили, – шепотом сказал тот смуглый всем остальным, и тут же кто-то его одернул:
— Ш-ш-ш…
Авдал пел и, отдавшись целиком пению и позабыв обо всем на свете, сам того не почувствовал, как повысил голос. Как много было в нем боли и горечи… Казалось, песня лилась не из уст Авдала, а из самого израненного сердца отца, потерявшего сына… Закончив петь, он глубоко вздохнул и снова улегся на траву.
Парни окаменели на месте. Потрясенные услышанным, они подавленно молчали, и никто из них не осмеливался нарушить тишину.
Авдал еще долгое время лежал неподвижно, глядя на чистое небо. Потом встал и достал из-за пазухи флейту. Смочив наконечник слюной, он пару раз в него дунул и, насадив на корпус флейты, поднес ее к губам. Грустная мелодия разлилась повсюду, и, казалось, что даже птицы перестали щебетать, чтобы прислушаться к этому печальному напеву. Еще никогда в жизни Авдал не играл с такой скорбью, как в этот раз. Мелодия была полна боли, горести и тоски. В ней чувствовался страх перед смертью, но он был где-то очень далеко и никак не мог тягаться с силой музыки. Благозвучие и гармония оттеснили смерть и победили ее.
Мотив сменился, и теперь Авдал играл уже другую мелодию, полную горькой досады. Казалось, музыкант роптал на свою же музыку и не мог ей простить того, что она так и не сумела помешать смерти и оказалась бессильной, позволив предать холодной земле его единственного сына. Ропот и жалоба смешались и вступили друг с другом в схватку.
Молодые парни стояли как вкопанные. Они боялись сдвинуться с места, чтобы никакой случайный и посторонний звук не нарушил гармонию льющейся со всех сторон мелодии. Благодаря ей заговорили горести и печали Авдала, да и всё вокруг заговорило и дышало голосом музыки – горы, ущелье, поля и цветы. Это играл не Авдал, а его огромная душевная боль, вырвавшаяся наружу. И вырвалась она с помощью музыки, и только она могла бы помочь музыканту одолеть эти горести и печали. Авдал, убитый смертью сына, позабыл обо всем на свете кроме своего израненного сердца, которое мог вылечить только звуками музыки и особенно грустной мелодией флейты. Авдал играл и хотел побороть тоску и скорбь, но они еще выше поднимали голову. Он играл долго, вливая в мелодию всё новые и новые напевы, но сердце не успокаивалось. Разозлившись, он отложил флейту и достал зурну. Ее резкое звучание мгновенно раздалось эхом в горах, отскакивая от одной скалы к другой. Мелодия была нечеткая и размытая. Авдал пару раз смешал напевы, и было видно, что у не игравшего долгое время музыканта пальцы не слушались, путались и разучились виртуозно, как это было раньше, исполнять любую мелодию. Он играл, играл и никак не мог остановиться…
Парни, не выдержав, невольно поднялись и устремились туда, откуда доносилась игра Авдала.
Авдал же потерял чувство реальности. Был только он и его зурна. Выпрямившись во весь рост, он играл с закрытыми глазами и подавался в такт мелодии то вперед, но назад, и ему казалось, что он снова на свадьбе и снова играет для танцующих. Находясь во власти музыки, он не услышал, как на поляне недалеко от него оказались молодые ребята. Авдал продолжал играть, сменяя мелодию одну за другой, и каждая из них теперь уже звучала ясно и отчетливо.
Парни стояли, не двигаясь, и лишь молча и удивленно переглядывались. Поведение Авдала казалось им настолько странным, что некоторые из них даже усомнились, не потерял ли он с горя рассудок? Но, прислушавшись к его игре, они сразу отмели свои подозрения. Перед ними был прежний Авдал со всем своим замечательным искусством исполнения, тот самый и всем так хорошо знакомый мастер, пальцы которого легко и свободно говорили со своим инструментом и извлекали из него волшебные и чарующие звуки.
Наконец мелодия оборвалась. Уставший Авдал присел и, невольно оглянувшись, только тогда заметил стоявших недалеко парней. Он вздрогнул, весь сжался и сконфуженно заглянул им в глаза.
Парни молча подошли к нему, а он, опустив голову, смущенно теребил в руках стебелек. Не проронив ни слова, все уселись вокруг него. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить, как сильно изменился Авдал за последнее время: потухший взгляд, скорбная сутулость и побелевшие от седины виски. Он выглядел уставшим и постаревшим.
Некоторое время все молчали.
— Будь оно неладно… Никак не мог сдержаться, – виновато проговорил Авдал. – Пальцы так и просились играть… Я не выдержал.
Никто ничего не ответил. Парни молча поднялись и, опустив головы, медленно побрели обратно.
… Осенью звуки зурны Авдала вновь раздались в деревне. Там справляли очередную свадьбу, и он, как раньше, снова был главным героем этого праздника…
ВСТРЕЧА
ВСТРЕЧА
Каждый день ранним утром жильцы домов просыпались от перезвона колокольчика водителя мусорной машины. Женщины, мужчины, дети с заспанными глазами брали мусорные ведра и спешили к машине. Мусорщиком вот уже долгое время работал один и тот же мужчина. Он брал по одному ведру, тщательно вытряхивал его содержимое в машину и возвращал пустое ведро владельцу.
В то утро многие даже не заметили, что вместо старого и знакомого мусорщика появился новый – высокий взрослый мужчина. Никто не обратил на него никакого внимания, потому что каждый спешил побыстрее выбросить свой мусор и вернуться домой. Им и дела не было до того, кто выполняет эту работу – старый мусорщик или кто-то другой.
Пожилая женщина, взяв мусорное ведро, в домашнем халате спустилась с третьего этажа и направилась к мусорной машине. Еще издали она отчетливо услышала голос мусорщика:
— Подождите, не высыпайте мусор сами, мне надо его еще утрамбовать, – говорил он жильцам, которых в то утро почему-то оказалось больше обычного.
Голос показался женщине очень знакомым, но она не могла сразу вспомнить, где же его слышала раньше.
Подойдя поближе, она внимательно посмотрела на мусорщика и не поверила своим глазам. Остолбенев, женщина пару раз зажмурилась, потом открыла глаза, думая, что виной всему утренняя дрема, но лицо мужчины действительно было ей очень хорошо знакомо.
«Неужели это он?» – спросила женщина саму себя и тут же ответила: «Не может быть».
Она уставилась на мусорщика, а тот, занятый своим делом, даже не заметил, как стоявшая недалеко женщина, позабыв обо всем, стоит и в изумлении смотрит на него. Она так и стояла до тех пор, пока все не разошлись, и только тогда до нее опять донесся знакомый голос:
— Давайте ваше ведро…
Женщина очнулась, смутилась и как в полусне подошла к машине поближе и протянула мусорщику свое ведро. Пока он вытряхивал мусор, она смотрела на него и не могла поверить своим глазам. Она опомнилась лишь в тот момент, когда мусорная машина с шумом пронеслась мимо. Задумавшись, женщина смотрела ей вслед, пока та не скрылась за другими домами.
«Да, это он, но он меня не узнал, – подумала женщина. – Не удивительно, ведь прошло столько лет. Да… кто бы мог подумать, что мы снова встретимся, да еще при таких обстоятельствах?.. Действительно, никто не может знать наверняка, какое будущее его ждет», – и она нетвердой походкой побрела к себе домой.
С того самого дня мысли о новом мусорщике прочно засели у нее в голове и не оставляли ее в покое.
… Эта женщина овдовела несколько лет назад. Детей у нее не было, она жила одна, и после выхода на пенсию ее дни были похожи один на другой как две капли воды. Ничего особенного и значимого в ее жизни не происходило, и ее, привыкшую к насыщенному и быстрому ритму каждого нового дня, это очень тяготило. Но тем утром, казалось, произошло что-то очень важное. Оно было и радостное, и в то же время немного грустное. Но это новое ощущение вытеснило тоску однообразия в ее размеренной жизни. Каждый вечер она старалась лечь спать пораньше. «Если лягу поздно, вдруг завтра просплю и пропущу машину», – думала она и уже ранним утром была на ногах. Приготовив заранее мусорное ведро и поставив его у двери, она постоянно выходила на балкон посмотреть, не едет ли мусорная машина. И когда наконец раздавался долгожданный звон, она брала ведро и выходила так спешно, что оказывалась возле машины раньше всех. Но так быстро опустошать ведро она не собиралась и, нарочно замешкавшись, пропускала соседей одного за другим вперед, а сама тем временем не сводила с мусорщика пристального взгляда. Люди один за другим подходили к машине, опорожняли свои ведра и возвращались обратно, а она стояла на месте, не двигаясь ни вперед, ни назад. Она смотрела на него и, несмотря на то, что понимала всю нелепость и неловкость ситуации, не могла заставить себя не смотреть на этого мужчину. Она смотрела и смотрела на него, а перед глазами проносились давно минувшие дни, те дни, которые так тесно были связаны с этим человеком…
* * *
Шла война. Беженцы тянулись по дорогам многочисленными толпами. Среди них была и их семья. В пути под турецким обстрелом был убит ее отец, и они с матерью остались одни. Ей тогда было десять-двенадцать лет, и после неимоверных трудностей им обеим удалось перебраться на ту сторону реки Араз. Но и здесь им пришлось нелегко. Везде свирепствовал голод, всюду были бедность, нищета и лишения. Она и мать после долгих мытарств обосновались в глухой курдской деревне и нанялись в услужение к одной богатой семье. А так как никакого пристанища у них не было, хозяин разрешил им приютиться в его сарае лишь на том условии, что они будут работать только за кусок хлеба. И несчастные мать с дочерью с утра до позднего вечера работали, не разгибая спины. Они так выматывались за весь день, что, дойдя до своего пустого жилища, у них только и хватало сил, как кинуться на жалкое подобие постели, которое состояло из груды лохмотьев, и заснуть.
Их кормили в день два раза. А давали им остатки с хозяйского стола, которых вечно было ничтожно мало для работающего как вол человека. Работы было много, а дочь была еще мала, и ей было очень трудно выдержать такую нагрузку. Поэтому часто мать, жалея дочку, не брала ее с собой и говорила хозяевам, что та болеет.
В такие дни дочь оставалась голодной вплоть до возвращения матери. Глядя на дорогу, девочка ждала, принесет ли мать с собой что-то съестное или нет. Бывали дни, когда еды было очень мало, и тогда мать, ни к чему не притронувшись, приносила ее домой и говорила дочери, что, мол, там уже поела и сыта. Девочка не раз видела, как вечерами мать развязывала шаль, которой обматывала поясницу, а из-под нее падало несколько камней. Тогда она еще не понимала, зачем матери эти камни и почему она подкладывала их под шаль и туго ею обматывалась. Только потом она узнала, что мать тем самым пыталась заглушить чувство голода…
Время шло, но в их жизни все оставалось по-прежнему. Трудясь в поте лица, выполняя самую разную и тяжелую работу, мать и дочь за кусок хлеба и тарелку супа были вынуждены терпеть все понукания и унижения.
У хозяина был сын – очень самоуверенный и наглый парень. Одетый с иголочки, он ничем не занимался и целый день либо слонялся по дому, либо где-то пропадал. Это был единственный сын, над которым родители тряслись, и поэтому не удивительно, что он рос капризным и избалованным. Лучший кусок был только для него, самая лучшая одежда – тоже, и кроме отца он никого не слушался.
Девочка, сама того не осознавая, стала чаще поглядывать на сына богача и думать о нем. Даже если его не было поблизости, его лицо, голос и фигура вставали у нее перед глазами. В его присутствии ей почему-то становилось не так трудно выполнять любую тяжелую работу: она легкой походкой сновала туда-сюда, и любое дело у нее шутя спорилось в руках.
Правда, он почти ее не замечал, а если и случалось так, что он проходил мимо или ронял пару слов, обращенных к ней, девочка смущалась и терялась. Она сама не понимала, какое чувство зарождается у нее в душе. Она радовалась, когда они встречались глазами, радовалась, когда видела его издалека, радовалась, когда он надевал новую одежду или обувался в новые туфли… Иногда ей даже казалось, что парень наряжается именно для того, чтобы обратить на себя ее внимание… Ей очень хотелось в это верить… И в то же время ей было нестерпимо стыдно за те жалкие обноски, которые она носила и кроме которых у нее ничего не было.
Иногда она ловила себя на том, что ей страшно. От чего именно, она сама не осознавала, но чувствовала, что чем больше она о нем думает, тем неуютнее и неспокойнее становится у нее на душе.
Как-то раз (она так и не смогла забыть тот день) утром рано сын богача стоял у двери и что-то ел. Когда девочка приблизилась, он подозвал ее и, поделив кусок хлеба, на который был намазан толстый слой сливок, протянул ей вторую половину. (И по сей день она не поняла, почему он так поступил). Девочка сперва хотела отказаться, но он так ласково обратился к ней, что у нее рука сама потянулась за хлебом. Но, взяв этот кусок, ее вдруг охватил такой стыд, что она, смутившись, опустила голову и выбежала из дому. Он за ней не побежал, хотя в глубине души ей этого очень хотелось, и она, вмиг проглотив такое роскошное лакомство, вернулась в дом, надеясь, что он все еще там. Но, к ее великому разочарованию, парня там уже не было. Весь оставшийся день она ходила как потерянная. С одной стороны, она не могла простить себе, что взяла хлеб из его рук и так унизилась перед ним. Но с другой стороны, ей было радостно на душе оттого, что этот парень проявил к ней хоть какое-то внимание… Она ловила себя на том, что хочет его чаще видеть, чаще слышать, и, просыпаясь каждое утро, она первым делом радовалась тому, что сегодня опять пойдет в тот дом, где будет он. И, не дожидаясь, пока мать ее разбудит, она вскакивала, одевалась в свои жалкие обноски и вместе с матерью с раннего утра опять была там, у порога дома богача. Но сын в это время не показывался – он все еще спал, и девочка, работая, все время была в ожидании, когда же наконец он проснется и появится где-нибудь поблизости.
Проходили дни, недели, месяцы, но желание видеть сына богача не только не ослабевало, но и усиливалось. Это было такое чувство, которого прежде она никогда не испытывала. Этот парень словно стал частичкой ее души, и без него мир казался ей пустым и серым.
Говорят, дети в бедности быстро взрослеют. Она уже осознавала, что любит этого парня, и в то же время понимала, как далеки они друг от друга. Он богат, она бедна… Но сердце диктовало свое. Оно потеснило разум, вернее, разум отступил под натиском сердца. И она любила его издали, в глубине души, чистой детской любовью. Но сын богача, казалось, был глух и слеп: он ничего не видел, ничего не чувствовал или же просто не удосуживался ничего замечать, потому что она совершенно ничего не значила в его глазах. И девочка все понимала, но, несмотря на это, ее чувство к сыну богача становилось все сильнее и сильнее. Оно было теплым и сладостным и грело ей душу до тех пор, пока не наступил тот самый страшный день.
В то утро она и мать, как обычно, пошли в дом богача. Его сын к тому времени уже проснулся, оделся и, как бы подражая взрослым, важно прохаживался по комнате.
Увидев мать с дочерью, он подозвал девочку и велел ей принести воды и налить ему на руки, чтобы он умылся. До того дня ей никогда не приходилось этого делать – обычно на руки ему поливала какая-нибудь из сестер. Но было раннее утро, и они все еще спали, а ему с отцом, видимо, нужно было куда-то срочно уйти по своим делам.
Девочка так растерялась от такого неожиданного и приятного поручения, о котором не смела и мечтать, что со стороны могло показаться, что она просто не расслышала обращенных к ней слов.
— Ты что, глухая? Не слышишь, что я тебе говорю? Я ведь сказал тебе принести мне воды и полить на руки! И поскорее – мы опаздываем! – накричал на нее он и капризно топнул ногой.
Девочка смешалась еще больше, густо покраснела, опустила голову и хотела пойти за водой, но ноги ее не слушались. Она остолбенела и не могла сдвинуться с места.
— Мерзкая оборванка! Сколько раз говорить тебе принести мне воды?.. – и девочка уже больше ничего не слышала – она всхлипнула и кинулась прочь из дома.
Прибежав к их сараю, она залетела внутрь, захлопнула за собой дверь и кинулась на их жалкую постель. Рыдания душили ее, она не могла остановиться, и вся эта ужасная сцена стояла у нее перед глазами. Горечь, обида, стыд, отчаяние – все смешалось в душе у девочки, и она плакала до тех пор, пока не пришла мать. Та присела рядом, положила голову дочери себе на колени и, ласково поглаживая ей волосы, стала ее успокаивать. Она утешала дочь, а у самой сердце разрывалось на куски. Накопившаяся за это время душевная боль наконец выплеснулась наружу, и женщина, вынужденная безропотно глотать все унижения, дала волю чувствам и горько заплакала…
С того самого дня дочь, казалось, разом повзрослела. Только тогда она до конца осознала, какая громадная пропасть лежит между ней и сыном богача: где он, где она… И лишь этот случай помог ее разуму справиться с чувствами. Но первая душевная рана, конечно же, не могла так быстро затянуться и забыться…
Не прошло и года, как новые порядки изменили привычную жизнь. В глухую деревню пришла советская власть, и все вокруг поменялось: вчерашние бедняки и батраки получили свои права и стали равными членами общества. В деревне открыли школу, и девочка пошла учиться. Семью богача объявили кулаками, отобрали у них две комнаты и передали их матери с дочерью. После этого семья их бывшего хозяина собралась и уехала из деревни, и с того дня девочка больше его не видела.
После окончания школы она уехала в город и поступила в институт. Выучилась, стала врачом и так и осталась в городе, но ездить в деревню не перестала – там жила ее мать, и очень часто она отправлялась туда ее навестить. И каждый ее приезд в деревню напоминал ей о прошедших днях и прежде всего о сыне богача. Она интересовалась и спрашивала о его семье у матери и соседей, но никто ничего про них не слышал. Она продолжала вспоминать и спрашивать о нем и после того, как вышла замуж, но поездки в деревню были уже редкими и случайными: мать она забрала к себе, а других родственников в деревне у нее не было.
Прошло много лет. Сначала умерла мать, потом муж, и она осталась совсем одна – уже пожилая женщина, прожившая большую часть своей жизни. И вот после стольких лет происходит такая встреча, да еще и при таких обстоятельствах… Давно пережитые эмоции и переживания вернулись вновь, и она ощутила их так явно, как будто и не было этих долгих лет… И она окунулась в эти воспоминания, припоминая каждую яркую деталь или эпизод.
Конечно, она смотрела на прошедшие события глазами уже не той молоденькой девочки, а женщины, у которой за плечами стоял немалый жизненный опыт. Да, в ее воспоминаниях о том парне было много горечи, но, пожалуй, в десятки раз в них было больше тепла и света, несмотря на то, что ее первая любовь была безответной. Разумеется, и она это хорошо осознавала, что проснувшиеся воспоминания совсем не означали пробуждения и возвращения прежних чувств к тому человеку. Сейчас она любила не его, а свое первое чистое и нежное чувство, как бы жестоко и безжалостно он его ни растоптал. И она не могла его забыть, но не из-за того, что могла бы по вполне понятным причинам испытывать к нему ненависть или желание отомстить, а потому, что он стал причиной и толчком возникновения ее первой любви.
Правда, несмотря на то, что от сына богача она кроме полного равнодушия ничего не получила, увидев его в таком жалком состоянии, у нее сжалось сердце. Безусловно, она понимала, что работа есть работа и что нельзя ее делить на хорошую и плохую. Но, глядя на него, вытряхивающего чужой мусор, она чувствовала, что он еще больше упал в ее глазах. Жизнь сложилась так, что их роли поменялись местами. Иного будущего у дармоеда и быть не могло, твердил ей разум. Но сердце говорило другое: что бы то ни было, плох он или хорош, но это твоя первая любовь. И она не могла не переживать и не болеть душой за того, кто первым породил в ее сердце теплое чувство. И почему-то каждый раз воспоминания о нем вызывали у нее перед глазами не образ теперешнего малопривлекательного мусорщика, а хорошо одетого, холеного и уверенного в себе молодого парня – сына богатых родителей. Она думала о нем и в то же время признавала в душе то, что если бы не одиночество, то вряд ли эта встреча оставила бы на нее такое впечатление. И она решила, что не станет ничего ему говорить и ничем себя не выдаст. «Пусть меня не узнаёт и все остаётся так, как есть. Буду его видеть каждое утро и вспоминать то теплое чувство, которое было в моем прошлом, – рассуждала она, – чего еще мне надо?»
И каждый новый день начинался именно так: женщина брала мусорное ведро, куда для вида клала несколько старых ненужных вещей, и выходила. Она стояла у мусорной машины до тех пор, пока все жильцы не опорожняли свои ведра и машина не трогалась с места. Так повторялось изо дня в день, и, кажется, мусорщик что-то почувствовал. Стоило ей приблизиться к машине, он украдкой бросал на нее подозрительный взгляд, потом делал вид, что занят своим делом, но при этом все же время от времени посматривал в ее сторону. Иногда бывало и так, что, поставив на землю мусорное ведро, она забывала о нем и лишь стояла и смотрела на этого человека. Тогда он, не говоря ни слова, подходил к ней, брал ведро, опорожнял его и так же молча ставил обратно.
Конечно, так долго продолжаться не могло. Все шло к тому, чтобы сердце победило разум и заговорило. И такой день настал.
* * *
Было холодное осеннее утро. Женщина, как обычно, проснулась рано, встала, оделась и в ожидании мусорной машины вышла на балкон. Постояв немного, она зашла в комнату, но в нетерпении снова вернулась обратно. Наконец раздался привычный звонок, и женщина, прихватив ведро, быстро спустилась во двор. Подойдя к машине, она опять вгляделась в мусорщика и сама не почувствовала, как у нее вдруг вырвалось:
— Извините, вы случайно не из такого-то района? – она назвала местность, где находилась та самая деревня.
Мужчина не издал ни звука. Либо он не услышал обращенных к нему слов, либо не захотел ответить.
Женщина повторила свой вопрос.
— Да, я родом оттуда, – ответил он, потом поднял голову, протянул молодой девушке, стоявшей рядом, ее ведро и перевел взгляд на женщину.
Несколько секунд они молча смотрели друг другу прямо в глаза.
— Доброе утро, доктор, – поздоровался с женщиной подошедший сосед.
— Доброе утро, – ответила она.
Мусорщик вздрогнул и растерянно посмотрел на женщину.
— А вы не из такой-то деревни? – и она назвала именно ту деревню, где прошло его и ее детство.
Мусорщик смешался и, пытаясь скрыть свое замешательство, быстро взял у мужчины его ведро и поспешил отвернуться. Вытряхнув мусор, он протянул пустое ведро хозяину и не сразу, но все же поднял на женщину тяжелый взгляд.
— Нет, я не из той деревни, – резко ответил он и сверкнул глазами.
Мусорная машина отъехала. Женщина продолжала стоять на месте и смотреть ей вслед. Постояв еще немного, она наконец сдвинулась с места и мелкими неуверенными шагами побрела обратно. Она поняла, что в это утро потеряла что-то очень родное и дорогое.
А на следующий день на мусорной машине работал уже другой человек.
БИРЮК
БИРЮК
В этом большом санатории только у него не было приятеля. Он поселился здесь несколькими днями раньше нас и попросил для себя отдельную палату, договорившись с персоналом, чтобы к нему никого не подселяли.
Этот человек явно избегал чьего-либо общества. В столовую ходил раньше всех и старался, пока зал еще не наполнился отдыхающими, быстро закончить с едой и уйти. В клубе танцев и кинозале его тоже ни разу не видели. Его можно было заметить лишь в уединенных местах, куда обычно никто не заглядывал. Молча, опустив голову и не оглядываясь вокруг, он медленно прогуливался и явно думал о чем-то своем. В окрестностях санатория у него была любимая скамейка, на которой он мог просиживать часами, подперев рукой голову. Но стоило кому-нибудь подойти и присесть рядом, как он тут же вставал и уходил по узкой тропинке в сторону леса, как бы давая понять, что не желает, чтобы его уединение было нарушено. Иногда он не спеша спускался в расположенное неподалеку ущелье, и нам сверху было видно, как он постоянно усаживался на один и тот же большой плоский камень и в задумчивости смотрел на шумный поток протекавшей мимо горной реки.
Никто из отдыхающих даже не знал толком, как его зовут. Спрашивать же у сотрудников санатория было как-то неловко – не было никакого повода. Не помню, кто именно, но один из нашей компании, когда в очередной раз речь зашла об этом человеке, назвал его бирюком, и с его «легкой руки» это меткое прозвище сразу же прилипло к нему. Бирюк… Да, это действительно был бирюк – нелюдимый, сторонящийся всех и предпочитающий естественному человеческому общению непонятное для нас одиночество.
На фоне безмятежной атмосферы, царящей в санатории, и доброжелательных отношений, сложившихся между остальными отдыхающими, это затворничество и полная отрешенность не могли не бросаться в глаза и даже вызывали у кое-кого некоторое раздражение.
— И зачем только он сюда приехал? – пожимал плечами один из нашей компании. – Ни процедур не принимает, ни отдыхает, как все остальные… Только место зря занимает.
— А тебе не все равно? Ну, приехал человек, так пусть отдыхает как ему нравится, – возражал другой.
— Все равно, санаторий ему ни к чему. Это не его место, – не унимался первый.
Честно говоря, первое время мы частенько обсуждали нашего Бирюка. Но постепенно эта тема нам наскучила, и мы почти забыли о нем. Лишь только иногда, увидев его где-нибудь поблизости, мы опять принимались за старое:
— Смотрите, наш Бирюк опять вышел на прогулку, – замечал один из нас.
— Интересно, о чем он так глубоко думает? Уж не подсчитывает ли что-то в уме? – отзывался другой.
— Откуда ты знаешь, может, он ученый и сейчас думает над какой-то очень важной проблемой, – с иронией бросал третий.
— Что-то не похож он на ученого, – наивно удивлялся первый, и мы все дружно хохотали над его простодушием.
Как-то раз поздним вечером, когда вся наша компания собралась в вестибюле, речь опять зашла о Бирюке. Наши рассуждения о том, что таких нелюдимых как он, надо еще поискать, прервала старшая медсестра, сидевшая в соседнем кресле.
— Нельзя так рассуждать о человеке, которого не знаешь, – вдруг обратилась она к нам, и мы все невольно повернулись в ее сторону.
Это замечание прозвучало так неожиданно, что в первый момент мы просто растерялись. Но один из нас довольно быстро нашелся:
— А вы что-то о нем знаете? Что он за человек?
— Знаю… – она сделала небольшую паузу и продолжила. – Это очень хороший человек, просто замечательный.
— А может, поделитесь с нами? – с любопытством спросил он. – Расскажите.
Медсестра невольно оглянулась на других отдыхающих, которые сидели совсем близко и могли услышать каждое наше слово. И хотя их внимание было поглощено другими делами – кто смотрел телевизор, кто играл в карты, а кто читал или просто беседовал – медсестра явно почувствовала себя неуютно и пересела к нам поближе.
— Это не какой-то крупный ученый. И не ответственный работник, – начала она. – Это обычный человек и, как вы все заметили, уже немолодой. Много лет подряд, точно не припомню, сколько, он приезжал сюда отдыхать вместе со своей женой. Какая это была красивая пара! На них было приятно смотреть. И выглядели они не как поженившиеся много лет назад супруги, а как двое влюбленных. Всегда вместе, всегда рядом, такие заботливые и внимательные друг к другу… Здесь у них были свои любимые места – то в ущелье спустятся, то забредут в лес. У них тут была даже любимая и знаменитая скамейка, про которую знал весь санаторий. Оба – и он, и она – были душой любой компании. Где бы они ни появились, тут же начиналось веселье – смех, шуточки, анекдоты… Такая была красивая и жизнерадостная пара… И когда он приехал в этот раз один, без жены, мы все очень удивились и, конечно, стали спрашивать у него, а где же, мол, ваша супруга. Оказывается, она несколько месяцев назад умерла, и видели бы вы его состояние, когда он буквально выдавливал из себя эти слова! Как тяжело было смотреть на его слезы… Да мы и сами не могли удержаться, ведь когда знаком с человеком лично, это всегда больно. Куда уж говорить о нем… Вы не поверите, но он, оказывается, все время носит с собой фотографию надгробной плиты с могилы жены. Несчастный, никак не может смириться с этой потерей… Вот поэтому он и приехал один. Он так нам и сказал, что приехал сюда не отдыхать, а еще раз посмотреть на те места, где они были вдвоем. А вы говорите «бирюк»… Откуда вам знать, может, так ему легче? Может, ему вообще кажется, что она вовсе и не умерла, а где-то здесь, рядом, потому что каждый предмет, каждая вещь напоминает ему о ней…
Медсестра замолкла, и мы заметили, как у нее в глазах заблестели слезы. Этот невеселый и такой неожиданный для нас рассказ оставил такое тяжелое впечатление, что мы некоторое время сидели молча, не зная, что и сказать.
— А не лучше ли было бы ему вообще не приезжать сюда? – нарушил тягостное молчание один из нас. – Ведь если все здесь напоминает ему о жене, зачем так мучить себя?
— Чужая душа потемки, – ответила медсестра. – Может, ему казалось, что как раз-таки наоборот, в этих знакомых местах ему станет легче?
— Вот почему он так часто ходит в ущелье и смотрит на воду… Да и в лес тоже… Теперь понятно… – отозвался другой.
Опять воцарилось неловкое молчание.
— А вы не знаете, в какой палате он остановился? – неожиданно обратился к медсестре один из нас – седовласый мужчина средних лет.
— Знаю, – удивилась она такому вопросу.
— Я предлагаю вот что. Давайте прямо сейчас же, не откладывая, зайдем к нему. Этот человек пережил такую трагедию. Ему и сейчас нелегко. Может, он нуждается во внимании, компании, сочувствии, в конце концов. Давайте зайдем и поговорим с ним.
— Сейчас уже не стоит, – твердо сказала медсестра, покачав головой.
— Почему?
— Потому что он больше не мог здесь оставаться и уехал раньше, чем закончилась его путевка. Как раз сегодня утром он съехал.
Это прозвучало так неожиданно, что каждый из нашей компании просто растерялся. Казалось, что странного могло бы быть в том, что отдыхающий мог уехать раньше времени? Ничего, если не считать того, что это случилось именно тогда, когда нам, уже посвященным в настоящую причину его нелюдимости и отрешенности, искренне захотелось проявить к нему простое человеческое участие и высказать сочувствие тяжелому горю.
Снова наступило молчание. Да и зачем и кому нужны были слова? Каждый из нас в душе винил себя в том, что, совершенно не зная об этом человеке, составил о нем такое ложное мнение. К сожалению, так случается довольно часто – люди всегда спешат наградить кого-то каким-то прозвищем, и чаще всего обидным, не составляя себе труда сначала получше узнать его. Вот так и мы – назвали человека бирюком, а это был всего лишь мужчина, переживший и все еще переживающий невосполнимую утрату.
— Да…, неловко как-то получилось, – приглушенно произнес все тот же седовласый мужчина и покачал головой.
— Честно говоря, есть еще кое-что, – начала было медсестра, но потом вдруг запнулась. Она как будто сомневалась, продолжать ли ей дальше, но, поймав на себе наши вопросительные взгляды, она продолжила. – Конечно, это очень личный вопрос, но раз уж об этом зашла речь… Подождите, я сейчас вернусь, – и быстрыми шагами вышла из вестибюля.
Мы переглянулись, но никто, конечно же, не знал, в чем дело, и нам не оставалось ничего больше, кроме как ждать ее возвращения.
Через несколько минут она появилась и протянула нашему седовласому товарищу несколько исписанных листков бумаги.
— Можете прочитать это вслух, – сказала она. – После его отъезда, когда убирали номер, нашли эти листки в письменном столе и отдали их мне. Правда, это очень личное, но они лежали без конверта, открыто. Зачитайте вслух, это прояснит очень многое.
Наш приятель взял эти листки, еще раз взглянул на медсестру и с любопытством, но все же нерешительно приступил к чтению написанного:
«Опять я здесь, в этих местах, в то же самое время года, но чего-то не хватает. Мне не хватает тебя. В наш прошлый приезд мы были здесь вдвоем, а сейчас я один, совсем один и тебя со мною нет. Почему меня покинула, зачем превратилась лишь в горькое воспоминание?.. Ведь всё осталось на своих местах, и только тебя нет со мною рядом…
Не могу тебя забыть, а если бы даже хотел, сердце не позволит. Выхожу во двор в надежде, что ты опять сидишь на нашей скамейке и ждешь меня… Но вместо тебя вижу другую, незнакомую женщину. Нет, я не завидую ей и не желаю ей плохого. Пусть сидит там, пусть живет, пусть ходит по этой земле. Но все равно – мне больно от того, что ты раньше времени ушла, исчезла, улетучилась и оставила меня одного…
Прогуливаюсь, а ноги сами несут меня к реке. И мне все кажется, что ты опять окажешься рядом и опять, как и прежде, заразительно смеясь, поднимешь всплески воды и окатишь меня ее брызгами, такими же теплыми и ласковыми, как твои мягкие руки. Но тебя нет, и кажется, что даже сама река догадывается об этом и потому шумит так грустно и печально.
Ищу тебя везде, везде там, где ты была – у реки, на нашей скамье, на лесной поляне, в веселых и дружных компаниях, где так часто раздавался твой веселый смех. Иногда мне даже кажется, что среди хора чужих голосов именно он доносится до меня, и я спешу на этот голос… Но опять обманываюсь…
Приехав сюда, мне почему-то казалось, что я повстречаю тебя именно здесь, в наших любимых местах… Мне казалось… Ищу тебя везде, но не нахожу… Сердце болит, ноет, плачет… Сторонюсь людей, бегу от их общества. Знаю, была бы ты жива, непременно сказала бы, что я не прав, что человек может пережить свое горе только в общении. Да, ты права, тысячу раз права, но ничего не могу с собой поделать. Сейчас мне хочется только одного – одиночества, чтобы никто не мешал мне искать тебя… Я не могу не искать тебя, иначе я сойду с ума.
С первого же дня моего приезда сюда всё вокруг — и люди, и цветы, и деревья, и те места, где мы гуляли, — всё только и вопрошает о тебе: «В прошлый раз вы были вдвоем, а сейчас ты один. Почему?» И что мне на это было ответить? То, что я тебя потерял, а сейчас ищу? Нет, это не я тебя потерял, это ты меня оставила… Ушла и оставила меня одного, чтобы я мучался и терзался до конца дней своих…
А здесь всё по-прежнему, всё, как и раньше… Лишь только тебя нет рядом со мной, да и я уже другой, не тот, каким ты меня оставила.
Не могу больше здесь оставаться, нет сил. Я возвращаюсь. С каким разбитым сердцем я приехал сюда, с таким же разбитым сердцем и возвращаюсь. Я искал тебя, думал, найду, но не нашел. И я зарекся больше никогда не возвращаться в эти края, где всё напоминает о тебе. Зря я сюда приехал, тебя здесь нет. Ты есть только в моем сердце, в моих воспоминаниях, в самом моем существовании…»
На этом письмо заканчивалось. Платок медсестры был весь мокрый от слез. У меня к горлу подкатил комок, а у всех остальных на глазах стояли слезы. Тот, кто читал это письмо, в задумчивости пробегал взглядом по последней странице.
— Вот и все, – сказала медсестра, протягивая руку за письмом. – К счастью, у нас есть его адрес, по нему завтра и вышлю это всё. В каком, наверное, он был состоянии, что совсем забыл об этом.
Мы и не заметили, как наступила ночь, и разбрелись поодиночке унылыми шагами по своим палатам. Не знаю, как кто, но за всю ночь я так и не смог сомкнуть глаз.
ВОР
ВОР
Была темная ночь. Мелкий осенний дождь, моросивший весь день, наконец прекратился. Мсто то и дело выглядывал из дома, посматривал на небо, беспокойно озирался вокруг и заходил обратно. Было видно, что ему что-то очень сильно не дает покоя. Мсто в очередной раз высунулся за дверь, немного потоптался и с мыслью «А ночка чудная» быстро направился к дому Касо.
Было уже за полночь. После дождя в деревне все затихло, и не было слышно даже лая деревенских собак.
Деревенские сторожа были на краю деревни. В те времена кражи и разбои случались довольно часто, и поэтому сельчане договорились, что каждую ночь по двое мужчин будут следить за порядком и отпугивать воров. С наступлением темноты эти караульные, держа на плечах дубинки, обходили каждую улицу и при этом постоянно посвистывали, тем самым предупреждая о своем приближении. И так до самого рассвета.
Оказавшись около дома Касо, Мсто неслышно поднялся на крышу, расширил световое отверстие в потолке над кладовой и проник внутрь. В кладовой было темно. Нащупав бурдюк с маслом, он взвалил его себе на спину и, выйдя из кладовой, хотел было направиться к входной двери, как тут его настиг Касо, схватил обеими руками за горло и стал душить. Мсто захрипел, руки его ослабли, и бурдюк с грохотом упал на земляной пол. Ало – сын Касо – от шума проснулся и вмиг очутился в коридоре. Пригляделся и видит: кто-то лежит на животе, а отец вцепился в него и душит. Спросонья Ало даже не сразу сообразил, что случилось.
— Ало, сынок, зажги лампу, – крикнул ему Касо.
Ало зажег в нише старую лампу и остолбенел: их сосед Мсто, весь жалкий, дрожащий и съежившийся, лежит на полу, а рядом валяется бурдюк с маслом. Ало все понял без слов.
— Ты что, совсем умом тронулся? – прокричал Касо и еще раз рывком встряхнул Мсто. – Решил обворовать соседа и оставить всю семью без запасов на зиму? И как у тебя только совести хватило, подлец ты этакий? Что я тебе плохого сделал? Вот иди и не спусти с тебя сейчас три шкуры!
Глаза Мсто готовы были выскочить из орбит, хотя железная хватка Касо при появлении сына заметно ослабла.
— Если тебе было что-то нужно, пришел бы как человек и попросил, а не крал, – тяжело дыша, говорил Касо и при этом не переставал его пинать. Надавав вору пинков, он наконец отпустил Мсто, поднялся и, не удержавшись, пнул его еще раз.
Мсто же продолжал лежать на полу, только с живота повернулся на спину и смотрел на Касо вытаращенными глазами, полными испуга.
— Ну, что молчишь? Язык проглотил? – завопил Касо. – А о чем ты думал, когда, как ненасытный пес, залез сюда, чтобы что-то стащить? Ты думаешь, такой поступок красит мужчину? Ну, что молчишь? Говори!
Но Мсто молчал и, опустив голову, весь дрожал. Горячая кровь вскипела в жилах Ало, и он замахнулся было на соседа, но отец проворно схватил и отвел его руку.
— Лежачего не бьют, сынок. Так не подобает мужчине, – сказал Касо и, потянув Мсто за руку, рывком помог ему подняться. – Ну, давай, вставай! Что разлегся?
— Умоляю, заклинаю тебя счастьем твоего сына, не убивай меня, – и Мсто бросился Касо в ноги.
Касо с негодованием оттолкнул его и сделал пару шагов в сторону.
Возня и шум разбудили домочадцев, и они гурьбой сбежались в коридор. Касо недовольно прикрикнул на них:
— А ну-ка убирайтесь! Чтобы духу вашего здесь не было! Идите спать!
Всех как ветром сдуло.
— Ты думаешь, я стану марать об тебя руки? – с презрением сказал Касо и смерил Мсто с ног до головы. – Нет, убивать тебя я не буду. Ты слишком ничтожен, и я не стану проливать в этом доме твою поганую кровь. Но я тебя опозорю, да так, что будешь помнить об этом всю свою жизнь, – и Касо повернулся к сыну. – Ало, сынок, принеси-ка мне мой старый нож.
Ало посмотрел отцу в глаза и молча вышел.
Услышав про нож, Мсто побледнел, задрожал мелкой дрожью и снова бросился Касо в ноги:
— Умоляю, заклинаю тебя, не делай этого!
— Отцепись, – и Касо грубо оттолкнул его. – А о чем ты думал, когда шел обворовывать соседа? Неужели твои старшие не научили тебя тому, что долг соседа – это большая ответственность? Сосед соседу должен быть ближе и роднее, чем брат, сосед соседу не должен делать подлостей, сосед имущество соседа должен беречь и охранять как свое собственное! Ведь сколько лет мы с тобой соседи? И за столько времени ты хоть раз мог попрекнуть меня или кого-нибудь из моей семьи в том, что мы в отношении тебя поступили подло? – при этих словах Мсто испуганно помотал головой. – Ну, а ты? Ты хоть понимаешь, как гадко и подло ты поступил? Нет, я должен тебя наказать, и я знаю, как это сделать. Я тебя заклеймлю так, чтобы ты поклялся раз и навсегда оставить это грязное дело!
— Клянусь и не сойти мне с этого места, если я еще раз с дурными намерениями выйду из дому, – с отчаянием и слезами в голосе поспешил воскликнуть Мсто. Ему почему-то показалось, что Касо хочет взять с него обещание никогда больше не воровать.
— Это хорошо, что ты клянешься покончить с воровством. Но для того, чтобы ты помнил об этом всегда, я должен тебя заклеймить. А что? – и Касо пожал плечами, – я отрежу тебе ухо, и пусть тогда все вокруг будут узнавать тебя по этой отметине. Пусть люди видят, кто перед ними, будут осторожны и берегут от тебя свое имущество. Так будет справедливо.
Мсто в ответ разразился настоящим бредом. От страха он настолько потерял самообладание, что и сам, наверное, не понимал, что говорит.
— Что ты несешь? – прикрикнул на него Касо. – Ты заткнешься или нет? Не прикусишь язык, придушу тебя как собаку!
Мсто замолк. Не в силах удержаться на ногах, он медленно, как курица, осел на пол.
Ало задерживался.
— Ало, сынок, где ты? Сколько тебя еще ждать? – нетерпеливо крикнул Касо.
— Да вот ищу, но не могу найти, отец, – отозвался из комнаты Ало. – Куда ты его дел?
— Он на моем ремне, а ремень у изголовья.
Пока Ало искал нож, домочадцы то и дело приоткрывали дверь и с любопытством заглядывали внутрь. Пару раз заметив это, Касо прикрикивал на них, и каждый раз они исчезали, но потом появлялись снова.
— Его там нет, отец, – через некоторое время отозвался Ало.
Мсто поднял голову и посмотрел на Касо. Весь бледный, как полотно, с трясущимися руками, он не мог пошевелить языком. Снова он упал Касо в ноги и хотел их поцеловать. Но Касо наградил его таким пинком, что тот упал навзничь. Постояв немного над ним, Касо убедился, что сосед от страха не может самостоятельно даже встать на ноги, и, протянув ему руку, опять помог подняться.
— Вставай, вставай! Даже в тяжелые минуты мужчина не должен терять свое достоинство!
Мсто поднялся и снова сел – его не держали ноги. Обливаясь холодным потом, он не знал, что ему делать, чтобы наконец выбраться из этого ночного кошмара.
— Ало, сынок, посмотри под стером[1], может, он там. И поторапливайся, пока я не остыл! Надо этому псу отрезать ухо, чтобы он помнил о сегодняшнем дне всю свою поганую жизнь.
Мсто весь сжался в комок и с ужасом уставился на дверь, ведущую в комнату. Казалось, он молил Бога о том, чтобы Ало так и не нашел нож или хотя бы вернулся как можно позднее. Но, как назло, именно в эту минуту появился Ало с ножом в руке. За ним вереницей тянулись домочадцы. Увидев их, Касо пришел в ярость и заорал:
— Я же сказал вам убираться отсюда! – и кинулся было на них, но те бросились наутек и захлопнули за собой дверь.
Касо не стал их догонять и, остановившись, повернулся к сыну и протянул за ножом руку.
Ало покорно передал отцу нож. Касо деловито взял его, осторожно проверил острие и, убедившись, что оно хорошо наточено, повернулся к Мсто.
— Ну, что, сукин сын, ты готов? – и злорадная улыбка Касо заставила вора содрогнуться. – Я отрежу тебе ухо и заставлю съесть его. А не съешь, оторву тебе голову.
— Умоляю тебя, Касо, заклинаю, да стану я жертвой тебе и всей твоей семье, не делай этого, – запричитал вор и опять захотел припасть к ногам Касо, но тот попятился назад.
— Будь хоть чуточку мужчиной, нельзя так себя терять! – презрительно кинул хозяин дома. – Ты что, не думал, что, занимаясь таким отвратительным делом, в один прекрасный день ты попадешься? Или ты считал, что тебе все так и будет сходить с рук?
— Если бы я знал… – Мсто еле сдерживал слезы, – если бы я знал, что все так получится, разве я пришел бы сегодня сюда? Ради Бога, умоляю, пожалей меня, не делай этого!
— А мою семью – жену, детей – ты пожалел, когда полез воровать запасы на зиму? Ты о них подумал? – вскричал Касо. – Нет, я должен сделать так, чтобы где бы ты ни появился, твоя отметина сразу бы бросалась в глаза и чтобы это было тебе наукой, что так поступать нельзя. Может, хоть это заставит тебя прекратить воровать. И вообще – ты должен благодарить Бога за то, что именно мне ты попался в руки. Любой другой на моем месте живым бы тебя не выпустил! А я отпускаю, но отметина моего дома на тебе остаться должна. Как мы клеймим наших овец и коров, чтобы они не заблудились, так и тебя заклеймим. Будем считать, что ты один из той домашней скотины, которую держит наша семья. Эх, скотина хоть на что-то годится, не то что ты, подлец…
Как Касо упомянул про скотину, Мсто поднял голову, и в глазах его мелькнул огонек надежды.
— Я дам тебе все, что захочешь, только не делай этого, – затараторил вор, умоляюще протягивая к Касо руки. – Хочешь, отдам тебе пару моих волов, хочешь? Возьми их, прошу тебя, только не позорь меня на всю деревню. Я не смогу вынести этого… Уж лучше смерть… – и Мсто захныкал.
— И ты думаешь, что я позарюсь на чье-то добро? Не суди по себе, негодяй! Я что, босяк какой-нибудь, чтобы взять у тебя этих волов и оставить голодной твою семью? Нет, голубчик, так просто ты от меня не отделаешься. Я тебя накажу и сделаю это так, чтобы ты уже не мог появляться среди порядочных людей и сидеть с ними за одним столом. Ало, сынок, – Касо повернулся к сыну, – пора с этим заканчивать, уж слишком он тут разговорился. Давай, помоги мне заклеймить этого наглеца.
Ало не сдвинулся с места. Было видно, что ему стало жаль воришку. Мсто, почувствовав это, смотрел на него таким умоляющим взглядом, как будто хотел сказать: «Моя жизнь в твоих руках. Ради Бога, убеди своего отца не делать этого…»
— Ну? – нетерпеливо сказал Касо сыну. – Чего ты ждешь? Помоги же мне.
Но Ало продолжал стоять, не двигаясь. Он явно хотел что-то сказать отцу, но было видно, что не решается.
Мсто почувствовал, что у Ало нет дурного на уме. Более того, он не согласен с решением отца, и поэтому Мсто всю свою надежду возложил на Ало: только он может помочь ему выбраться из этого ужасного положения, только он и никто другой.
Повернувшись к Ало, Мсто со всем пылом, на какой был способен, произнес:
— Ало, да стану я тебе жертвой, ведь мы соседи и сталкиваемся на дню по сто раз. Пожалейте меня хотя бы ради этого. Ну, хорошо, скажем, случилось, я поступил гадко, подло, но вам-то какой интерес меня уродовать? Ведь я тоже человек, и как мне после этого жить, выходить из дома, показываться на людях? Ради Бога, заклинаю вас, не делайте этого, не позорьте меня!
— А то, что ты сделал, разве это по-соседски? – с негодованием сказал Касо, отвел взгляд и посмотрел в сторону. Но было видно, что слова вора все же подействовали на него, и он немного смягчился. – Ну, что мне сказать? – и Касо пожал плечами. – Ах, если бы не наше соседство…
Касо смолк. Мсто опустил голову и не двигался со своего места. Он прекрасно почувствовал, что в такой момент лучше всего промолчать, ведь нечаянно сказанное хотя бы одно-единственное слово могло бы все испортить.
— Отец, давай простим его… Ради соседства, – сказал несмело Ало. Это было в первый раз в жизни, когда он осмелился возразить отцу. Но сейчас, увидев своего соседа в таком жалком состоянии и поняв весь ужас выбранного отцом наказания, Ало не выдержал и решил вмешаться.
— Разве такой негодяй достоин прощения во имя соседства? – произнес Касо уже без прежнего гнева. – Если бы он почитал людские законы, то в эту ночь не вышел из дома и не пошел бы воровать.
— Ничего, отец, ну, случилось это, что тут поделаешь, – Ало говорил уже более уверенно. – Говорят, и мулла над Кораном ошибается. Ради Бога, прости его на этот раз и не проливай его кровь в нашем доме. Пусть убирается и знает: то, что сегодня произошло, для него хуже смерти. И пускай потом решает сам: прекратить это грязное дело или воровать дальше. Не перестанет – ему же хуже, он рано или поздно за это поплатится. А нам лучше не брать грех на душу и держаться подальше от всех пересудов.
— Да разве он человек? Собака – и то благороднее него, – с презрением отозвался Касо, махнул рукой и отвернулся.
Ало ничего не ответил. По тону отца он понял, что тот окончательно смягчился и передумал так жестоко наказывать соседа, но в то же время не хочет этого показывать, чтобы поиграть на его нервах и преподать тем самым хороший урок.
В душе Ало появилась надежда и новое, впервые испытываемое приятное чувство от того, что отец прислушивается к его мнению. Правда, Касо еще не сказал своего последнего слова, но по всему было видно, что он изменил свое решение. Теперь же нужно было хорошо постараться, чтобы отец не передумал еще раз.
— С него достаточно и того, что ты с ним сделал, – поспешил сказать Ало. – Не видишь, в кого он превратился? Я думаю, пока он жив, эту ночь никогда не забудет. Давай, отец, не будем проливать у нас в доме его поганую кровь! Пусть убирается ко всем чертям!
Касо ничего не ответил и лишь посмотрел на бурдюк с маслом, который валялся рядом.
— И стоило из-за этого бурдюка так позориться? – и Касо покачал головой. – Нет, ты не человек. Мой Ало прав – ты не достоин того, чтобы я марал об тебя руки. Вставай и убирайся!
Мсто не сдвинулся с места. То ли ему не верилось, что после всего случившегося так легко и без всякого наказания его отпускают, то ли он что-то задумал.
Вот уж кто был рад словам Касо, так это его сын. Правда, Ало характером был очень вспыльчив (впрочем, как и все мужчины их рода), но отходчив. Его тоже удивило поведение вора, которого простили и отпустили на все четыре стороны. «Он что, с ума сошел? Почему не встает и не уходит? А вдруг отец передумает? Вот уж тогда не оберешься разговоров…» – с ужасом подумал про себя Ало.
— Вставай, вставай и уходи отсюда, – сказал Ало, стараясь придать своему голосу как можно более спокойный тон.
Но Мсто продолжал сидеть. Он весь сжался и то и дело как-то странно заглядывал то в глаза отца, то в глаза сына.
— Вот те раз! – удивился Касо. – Что же это ты, голубчик, не убираешься? Или ты глаз положил на этот бурдюк? Может, хочешь, чтобы я взгромоздил его тебе на спину и ты отнес бы его к себе домой? – издевался Касо.
Как только хозяин дома упомянул про бурдюк, Мсто вздрогнул, побледнел и опустил голову. Отец с сыном удивленно переглянулись. Поведение вора было очень странным, и они не могли ничего понять.
— У меня к вам огромная просьба. На коленях умоляю вас, – и Мсто проворно опустился на колени. – Или возьмите и тут же меня убейте, или никому об этом не рассказывайте. Пожалейте меня, не позорьте перед всей деревней!
— Ты на этого наглеца посмотри, – воскликнул Касо и хлопнул себя по колену. – Мало того, что он пришел ко мне воровать, я его поймал и даже пальцем не тронул, так он теперь еще и хочет, чтобы я никому не рассказывал о его гнусном поступке! Может, тебе еще и поклясться в этом?!
Мсто промолчал.
— Вот это да! – покачав головой, протянул Касо. – У нас тут с тобой, ну, прямо как в той притче про вора, отца и сына. Сын говорит, отец, я поймал вора. Отец говорит, приведи его, сынок. Сын отвечает, он не идет, отец. Отец говорит, отпусти его, пусть идет. Сын говорит, я его отпустил, теперь он меня не отпускает. Вот так и у нас с тобой: мы тебя отпустили, теперь ты нас не отпускаешь?
Мсто поднял голову, посмотрел Касо в глаза и тихо, но твердо сказал:
— Пока ты мне точно не пообещаешь, я не сдвинусь с места, хоть режь. Уж лучше быть убитым, чем опозориться перед всем миром из-за какого-то бурдюка масла.
— А если ты соображаешь, что из-за бурдюка масла можешь опозориться, зачем ты шел на эту подлость? – с иронией спросил Касо. – Как будто это я тебя просил, чтобы ты пришел ко мне воровать!
— Ну, дурак был я, вот кто, – продолжал вор, совершенно спокойно. – Я знаю, ты не тот человек, который, пообещав что-то, потом не сдерживает слово. Теперь моя судьба в твоих руках и решай сам: или ты меня убиваешь прямо здесь, в своем доме, или обещаешь, что никто и никогда не узнает о том, что случилось этой ночью.
— Я что – обязан тебе? Может, ты еще скажешь, что я твой должник? – возмущению Касо не было предела, но при всем при этом он не мог сдержать улыбки, настолько его поразила наглость вора.
— Я не говорю, что ты мой должник. Это я перед тобой в неоплатном долгу за твою человечность и теперь молю тебя только об одном: будь великодушен и не позорь меня на весь белый свет.
— Ну, хорошо, отец, скажем, об этом все узнали. Что это нам даст? – вмешался Ало.
— Я знаю, сынок, что ничего не даст, – ответил Касо, махнув рукой, – но я поражаюсь его наглости! Мало того, что он совершил отвратительный поступок, да еще и требует, чтобы ему пообещали держать этот поступок в тайне! Вот что меня злит!
— Пусть подавится, – сказал Ало. – Если он так низко пал, давай не будем об этом рассказывать.
— Но ведь вопрос не в этом, сынок. Мы-то можем никому не рассказать, но ведь говорят, воровство и блуд долго не скроешь. Рано или поздно все обнаружится.
— Ну и пусть обнаружится. Лишь бы от нас не вышло, – пожал плечами Ало.
— Мужчина должен держать свое слово, сынок, – ответил Касо совершенно серьезно. – Если человек что-то пообещал, во что бы то ни стало, он должен сдержать свое слово, не так ли?
— Так, отец.
— Значит, если я пообещал, вся ответственность ложится на меня. Но ведь то, что случилось, знаю не только я. У меня, слава Богу, есть семья, есть жена, дети. Они все видели и знают, что случилось, и откуда мне знать, кто из них завтра пойдет и расскажет на всю деревню о том, что сейчас здесь произошло. А если об этом все узнают, тогда грош цена моему обещанию. А я не тот человек, и поэтому не подобает мне давать те обещания, за последствия которых я не ручаюсь.
— А это легко уладить, отец. Ты пообещай, а с домашними мы поговорим сами и строго-настрого накажем им держать язык за зубами.
— Ну, если ты так считаешь, – устало сказал Касо, – пусть убирается и будет уверен, что все останется между нами. – И, повернувшись к вору, продолжил. – А ты вставай, чтоб тебе пусто было… И знай, что Бог этого так не оставит и в один день тебя сильно накажет…
Мсто еще раз кинулся Касо в ноги, но тот с отвращением отвернулся. Ему действительно было неприятно смотреть на эти унизительные выходки.
— Вставай и убирайся из моего дома, – сказал Касо, слегка повернувшись в его сторону. – И имей в виду, что об этом никто не узнает. Вставай и иди к себе домой. Считай, что этой ночью ничего не произошло. Разговоры и пересуды нам ни к чему. И не надо меня благодарить, ты человек нечестный, и твои молитвы за мое здравие мне не нужны. Вставай и молча уходи. Будем считать, что этой ночью собака прокралась в мою кладовую, там нашкодила, а мы на нее цыкнули и прогнали. Уходи!
Мсто встал с колен, посмотрел на Касо, потом перевел взгляд на Ало, хотел было что-то сказать, но не посмел. Немного постояв, он, как побитая собака, опустил голову, бочком прошел к двери и вышел.
Как только вор ушел, отец и сын поставили злосчастный бурдюк на место и вернулись в комнату. Никто из домашних не спал. Касо сел на свою постель, достал кисет и свернул толстую папиросу. Все молчали и ждали, когда он заговорит. Касо не спеша достал кремень и, прикурив от него папиросу, сделал две-три глубокие затяжки и повернулся к своим домочадцам:
— Все, что случилось сегодня ночью, должно остаться в этих четырех стенах. Тот подлец пришел сюда воровать, но поймался. Короче, я его не тронул, да еще и пообещал, что все останется между нами, что я и моя семья никому об этом не расскажем и никто ничего не узнает. Теперь я хочу вас предупредить: никому об этом ни слова, слышите? Если хоть кто-нибудь в деревне узнает о том, что произошло, значит, кто-то из вас проговорился. И тогда пеняйте только на себя. Я никого не пощажу и сниму с болтуна три шкуры! Вы все поняли? Я дал слово, ясно вам?
Ответом было лишь глубокое молчание. Все знали, что Касо – человек слова, и как сказал, так и сделает. И каждый решил про себя, что лучше откусит себе язык, чем проболтается в деревне о том, что произошло этой ночью.
Настало утро. Касо вышел из дома и, взобравшись на крышу, заметил разодранное световое отверстие в потолке. Недовольно зацокав, он что-то буркнул себе под нос и стал приводить в порядок то, к чему приложил руку ночной вор. Закончив это дело, Касо спустился и увидел Мсто, который в своем огороде возился с картошкой. Проходя мимо, Касо хотел было идти дальше, но невольно остановился, посмотрел на Мсто и, вернувшись, подошел к нему.
— Ты недостоин того, чтобы с тобой здоровались, – сказал ему Касо совершенно серьезно. – Но это не по-божески. И Богу не понравится то, что с утра встречу тебя и не поздороваюсь. Только ради этого я говорю тебе «здравствуй», но знай, что приветствие твое мне омерзительно.
— Да станут мои глаза землей под твоими ногами! Доброе, доброе утро! – заискивающе ответил Мсто, обрадовавшись тому, что сосед с ним заговорил. – Проходи, проходи, дядя Касо. Давай я дам тебе немного картошки, пусть моя тетя тебе их сварит.
— Благодарю, – с иронией ответил Касо, – но я не босяк, чтобы положить картошку к себе в подол и так и идти. Ты думаешь, я себе такое позволю?
— Ну, зачем ты так, дядя Касо? – стал виновато оправдываться вчерашний вор. – Ну, ляпнул я что-то, зачем обижаться? Мне всего лишь хотелось этим утром угодить тебе хоть чем-нибудь. – Мсто так смешался, что не знал, что говорить.
— А что, разве угождают картошкой? – съязвил Касо. – Хотя чему мне удивляться, едва ли ты способен на что-то большее, – и, повернувшись к Мсто спиной, быстро отошел.
Мсто, растерянный, стоял не двигаясь. У него действительно не было в мыслях сказать что-то такое, что могло бы задеть Касо. «Ну, надо же… Вот ляпнул глупость. Поделом мне, кто меня за язык тянул», – с досадой подумал про себя Мсто и почему-то потянул и резко вырвал из земли картофельный куст. Крупные картофелины остались в земле, а мелочь вместе с корнями, стеблем и листьями оказалась в его руках. Мсто и сам не знал, зачем он это сделал, и ему больше ничего не оставалось, как присесть на корточки и заняться картошкой. Ту мелочь, которую он вырвал с корнем, он отделил и положил рядом. Картошку покрупнее он выкопал вручную и сложил ее кучкой на соседнюю грядку. Потом засыпал ямку землей, положил мелкую и крупную картошку к себе в подол и осторожно направился к своему дому.
В следующие несколько дней Мсто почти не выходил из дому. Ему было невыносимо стыдно показываться людям на глаза, не говоря уже о том, что он не рисковал даже подойти к односельчанам и просто поговорить с ними о чем-нибудь. Сидя дома, он навострил уши и был в курсе всех новостей в деревне. Его не переставал терзать страх, узнали ли односельчане насчет той ночи или нет, но, несмотря на всю боязнь, у него была большая надежда на Касо. Зная его характер, Мсто был уверен в том, что раз сосед что-то пообещал, то ни за что на свете не проболтается. Насчет Касо он не сомневался, но что касалось членов его семьи… «Женщины, кто его знает, вдруг возьмут и проболтаются… Или же дети – они же тоже были там и все видели», – думал Мсто и не находил себе места ни днем, ни ночью. И все же он не переставал надеяться на данное соседом слово и прикидывал, что Касо наверняка предупредил всех домашних, и те не посмеют его ослушаться. «Уж лучше б я в тот вечер сломал ногу, но не пошел бы туда воровать», – в который раз твердил себе Мсто и никак не мог успокоиться.
О том, что случилось той ночью, он, ясное дело, не рассказал никому, даже членам своей семьи. Об этом знали только он и семья Касо. Но Мсто почему-то казалось, что все кругом только об этом и говорят, а при нем нарочно помалкивают, и что стоит ему отвернуться и отойти хоть на шаг, как все принимаются об этом судачить. Недоверчивость и подозрительность росли с каждым днем. Мсто не упускал ни одного случая, чтобы не прислушаться к разговорам между членами его семьи – ему казалось, что так он точно сможет догадаться, идут ли о нем разговоры, и если да, то какие. Но чем дальше он пытался что-то разузнать, тем больше убеждался в том, что в деревне все тихо и спокойно и страхи его напрасны.
Касо видел, в каком состоянии оказался его сосед. Видел это и радовался. «Если он так переживает, значит, кое-что понял, – думал Касо. – Может, хоть это станет для него хорошим уроком, чтобы он наконец прекратил воровать». И Касо все больше и больше убеждался в том, что в ту ночь поступил правильно, когда не тронул вора и не ославил его на всю деревню.
После той ночи незадачливого воришку словно подменили. Мсто, которого раньше можно было увидеть разве что в группе праздных мужчин, теперь стал домоседом. Он редко показывался на людях, с утра до позднего вечера занимался своим хозяйством, следил за огородом и усиленно готовился к зиме.
Перемену в Мсто заметил и Ало, и как-то вечером у него с отцом зашел об этом разговор.
— А ведь, отец, как верно ты поступил, когда в ту ночь простил его. Видишь, как он изменился? Видно, это стало для него хорошей наукой.
— А как же, сынок, – ответил Касо. – Он ведь тоже человек. Наверное, прикинул, взвесил, подумал над своими поступками, понял, что был не прав. Нормальный человек, когда понимает свою ошибку, старается ее больше не совершать.
Прошло несколько дней. Никаких разговоров в деревне о той ночи не было. Прошло несколько месяцев. Все по-прежнему было тихо. Мсто очень изменился. Казалось, в ту ночь один Мсто ушел воровать, а вернулся совсем другой. Урок, который преподал ему Касо, не прошел даром.
Постепенно Касо и Ало забыли об этом. Но Мсто не забыл, и стоило ему вспомнить тот эпизод, как он начинал сгорать от стыда. С тех пор Мсто оставил это свое позорное занятие и больше никогда с плохими намерениями не выходил из дома.
[1] С т е р – постельные принадлежности, аккуратно сложенные друг на друга и покрытые ковром или покрывалом; стер располагают у стены напротив двери.
«ПРИВИДЕНИЯ»
«ПРИВИДЕНИЯ»
Жил в нашей деревне парень по имени Шалал. Такого заносчивого, высокомерного и вдобавок хвастливого человека просто свет не видывал. Ни дня не проходило без того, чтобы он не соврал или не похвастался. Об уважении к старшим вообще не  могло быть и речи. Для него ничего не стоило бесцеремонно, как поломанная ложка, вмешаться в разговоры взрослых и запросто обратиться по имени даже к самому старому и почтенному старцу нашей деревни. И это тогда, когда мы, его ровесники или парни постарше, никогда не позволяли себе никакого другого обращения к старшим, кроме как «дядя». Взрослым же ничего не оставалось делать, как после этих его выходок переглядываться меж собой и недовольно покачивать головой.
могло быть и речи. Для него ничего не стоило бесцеремонно, как поломанная ложка, вмешаться в разговоры взрослых и запросто обратиться по имени даже к самому старому и почтенному старцу нашей деревни. И это тогда, когда мы, его ровесники или парни постарше, никогда не позволяли себе никакого другого обращения к старшим, кроме как «дядя». Взрослым же ничего не оставалось делать, как после этих его выходок переглядываться меж собой и недовольно покачивать головой.
Но особенно Шалал любил прихвастнуть своей необычайной смелостью и отсутствием какого-либо страха: то, по его словам, он умудрялся несколько раз переночевать на кладбище, то прогонял волка, то чуть ли не задушил медведя (откуда в наших краях было взяться медведям?), который еле успел от него ноги унести…
— И откуда у него столько фантазии? Ведь соврет и глазом не моргнет, – говорили, посмеиваясь ему вслед, наши сельчане.
А Шалалу было все нипочем: после очередной порции вранья он, посвистывая, прогуливался по деревне и всё норовил оказаться у источника, куда, прихватив с собой кувшины, стекались по вечерам наши девушки. И тут Шалал расходился вовсю: приняв горделивую осанку, он начинал так громко о чем-то рассказывать, что стоявшие недалеко девушки могли расслышать каждое его слово. Он не был женат, хотя был старше нас на несколько лет. Его отец несколько раз пытался сосватать ему какую-нибудь девушку не только из нашей, но и из соседних деревень, но безуспешно: кто, зная его, выдал бы свою дочь за такого хвастуна? А он, оказывается, уже довольно долгое время был влюблен в одну девушку из нашей деревни и не упускал ни одного случая, чтобы не повертеться вокруг ее дома, причем всегда старался собирать около себя небольшую компанию ребят, среди которых чувствовал себя более уверенно. Но все его попытки обратить на себя хоть малейшее ее внимание были напрасны – она упорно не замечала Шалала и проходила мимо него как мимо пустого места.
случая, чтобы не повертеться вокруг ее дома, причем всегда старался собирать около себя небольшую компанию ребят, среди которых чувствовал себя более уверенно. Но все его попытки обратить на себя хоть малейшее ее внимание были напрасны – она упорно не замечала Шалала и проходила мимо него как мимо пустого места.
Но Шалал не унимался. В очередной раз, примкнув к нашей компании, он так нас заговорил, что мы и сами не заметили, как опять очутились у ее дома. Нарочито громким голосом он стал нас поучать, как, мол, человек может в одиночку одолеть медведя.
— Но ведь в наших краях медведи не водятся, – возразил один.
— Как это «не водятся»? А ну-ка, попробуй сунуться вглубь Черных лесов, сам увидишь, есть там медведи или нет. В тот год, когда я был еще маленьким… – и его понесло.
Разглагольствуя и описывая свои очередные «подвиги», он не переставал краем глаза поглядывать на дом той девушки. И тут мы заметили, как из дверей вышла она вместе с двумя своими подружками и направилась прямо в нашу сторону. Шалал, увидев это, воодушевился еще больше. Пытаясь скрыть внутреннее волнение, он неестественно повысил голос и уж слишком наигранно стал жестикулировать. Но он старался напрасно. Поравнявшись с нами, та девушка, в которую он был влюблен, нарочно громко и презрительно бросила на ходу «Фу!», и ее подружки прыснули со смеху. Не удержались и мы и разразились громким хохотом. Не смеялся только Шалал. Так резко и жестоко оборванный на полуслове, он совсем растерялся и лишь молча таращился вслед уходящим девушкам, которые, не переставая посмеиваться, несколько раз оглянулись на хвастунишку.
Оцепенение Шалала длилось недолго: как только девушки скрылись из виду, он опять как ни в чем не бывало продолжил нести околесицу. Но этот эпизод нас так развеселил, что мы уже не могли спокойно выслушивать эту брехню и, перемигиваясь, откровенно хихикали прямо ему в лицо. Наконец поняв, что над ним просто издеваются, Шалал пристыжено убрался восвояси.
— Ну и наглец, – покачивая головой, сказал один из нас. – Ни стыда, ни совести. Будь любой другой на его месте, от стыда сквозь землю бы провалился, а ему все нипочем. Нет, так нельзя, надо бы его проучить, – и повернулся к нам. – Согласны?
В нас проснулся азарт. Каждому из нашей компании до смерти надоело хвастовство Шалала, и в тот же день мы решили, что должны хорошенько его проучить. Но сделать это было не так-то просто, потому что именно из-за него в нашей деревне то и дело возникали стычки между мужчинами из его рода (их было большинство, и они, ясное дело, защищали своего) и мужчинами из других родов, которым выходки Шалала порядком поднадоели. И чтобы не допустить очередного скандала между соседями, мы решили сделать все так, чтобы ни одна живая душа, кроме нас, об этом не узнала.
Как решили, так и сделали. А дело было так.
Дом отца Шалала был на самом краю деревни, недалеко от кладбища. Мимо него протекал ручей, водой которого вся деревня по очереди поливала свои огороды. Мы узнали день, когда должна была подойти очередь их семьи пустить воду на свои картофельные грядки, и составили наш «коварный» план.
В тот вечер все складывалось как нельзя удачно для нас – никого, кроме Шалала и его мачехи Шарбат, не было дома: его братья уехали в город на заработки, а отец был на мельнице и к тому времени пока еще не успел вернуться.
Как только стемнело, мы всей компанией направились к кладбищу и спрятались среди надгробных камней. Наблюдая за домом Шалала, мы терпеливо ждали, когда же он, наконец, появится: ведь ему надо было пройти через могилы, дойти до источника и направить воду на свой огород. Ждать пришлось долго. В конце концов Шалал вышел, прикрыл за собой дверь, деловито взгромоздил лопату себе на плечо и, беззаботно посвистывая, направился к ручью. Мы же не двигались с места, потому что еще заранее решили сперва дать ему возможность пустить воду, а уж только потом сделать все, что задумали.
Тем временем Шалал приблизился к кладбищу и несколько раз с опаской посмотрел в сторону могил. Он уже не насвистывал, как пару минут назад, а лопату держал обеими руками так крепко, как будто собирался со всего размаху огреть ею кого-то по голове. Не заметив нас, он прошел мимо и поспешил к источнику. Пока он возился, направляя воду на свой огород, мы  быстренько стащили с себя верхнюю одежду и остались в нижнем белье – в рубашках и штанах белого цвета. Притаившись за могильными камнями, мы с нетерпением ждали возвращения Шалала, и, наконец, он появился. В эту черную ночь мы все, как один, в белом, с диким криком и воем повыскакивали из своих укрытий и устроили настоящую оргию: прыгали друг на друга, размахивали руками, кувыркались и бегали, описывая круги! Шалал же, в первый момент остолбенев, чуть не лишился рассудка… Отшвырнув в сторону лопату, он с воплями и криками бросился наутек!.. Как он улепетывал! Он удирал так, что только пятки сверкали… Ни разу так и не оглянувшись назад, он за несколько секунд оказался у порога своего дома и с криком «Шарбат, они меня задушили!» пулей влетел внутрь и захлопнул дверь.
быстренько стащили с себя верхнюю одежду и остались в нижнем белье – в рубашках и штанах белого цвета. Притаившись за могильными камнями, мы с нетерпением ждали возвращения Шалала, и, наконец, он появился. В эту черную ночь мы все, как один, в белом, с диким криком и воем повыскакивали из своих укрытий и устроили настоящую оргию: прыгали друг на друга, размахивали руками, кувыркались и бегали, описывая круги! Шалал же, в первый момент остолбенев, чуть не лишился рассудка… Отшвырнув в сторону лопату, он с воплями и криками бросился наутек!.. Как он улепетывал! Он удирал так, что только пятки сверкали… Ни разу так и не оглянувшись назад, он за несколько секунд оказался у порога своего дома и с криком «Шарбат, они меня задушили!» пулей влетел внутрь и захлопнул дверь.
Мы рванули к могильным камням, где оставили наши одежды, и быстро натянули их на себя. Пока мы одевались, Шарбат вышла из дома, немного постояла, посмотрела в сторону кладбища и, недовольно пожав плечами, зашла обратно.
Ну а мы, выйдя из наших укрытий и давясь со смеху, двинулись обратно в деревню, предусмотрительно выбрав другую дорогу, чтобы нас случайно не заметили с дома Шалала.
Смакуя подробности этой сцены и передразнивая напуганного нами до смерти лгунишку, мы долго не унимались:
— Ну что, получил свое?
— Дали тебе по мозгам, давно бы…
— Будешь еще хвастаться, врунишка, – повторяли мы и смеялись.
Вот так, не переставая отпускать шуточки и вспоминая нашу маленькую месть во всех деталях, мы и не заметили, как подошли к окраине деревни. Но перед тем как разойтись, мы еще раз поклялись друг другу, что ни одна живая душа не узнает о том, что случилось в эту ночь, и разбрелись по домам.
Наутро Шарбат как обычно пошла за водой и у источника рассказала женщинам о том, что этой ночью Шалалу встретились привидения, которые его чуть не задушили. Те стали переглядываться, кусать губы от смеха, а некоторые и вовсе отворачивались, не в силах скрыть свои улыбки. Ясное дело, никто ей не поверил, но по всей деревне моментально разнеслась молва о встрече Шалала с привидениями.
Сам же Шалал в тот день так и не вышел из дому. Говорят, заболел, бедняга, от ночного потрясения. Ну, а наша компания, проучившая Шалала, собралась и в тот же день под предлогом сбора съедобных трав отправилась за деревню посмотреть на тот самый огород, который должен был полить этой ночью наш хвастун. Какой там огород?… От него ничего не осталось… Оказывается, вода, которую Шалал так и не перекрыл, шла всю ночь. Она размыла грядки и разворотила все клубни. От картофеля ничего не осталось…
С того самого дня, вернее, с той самой ночи, Шалала словно подменили. Больше никто и никогда не слышал от него ни слова лжи. А если при нем вдруг случайно заходил разговор о привидениях, надо было видеть, как он начинал бледнеть, теряться, выкатывать с испугом глаза и растерянно таращиться на рассказчика.
— Дай Бог здоровья привидениям. Ведь если бы не они, конца-краю его вракам не было бы, – очень часто повторяли в отсутствие Шалала сельчане и всё посмеивались.
Художник Арыф Савынч.
ДВА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ
ДВА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ
(Воспоминание)
События, о которых я хочу рассказать, произошли во время Великой Отечественной войны.
Нехватка мужчин ощущалась повсеместно, в том числе и в школах, где практически не осталось настоящих учителей. Люди же, которые обучали нас, и по своим чертам характера, и по уровню знаний были очень далеки от тех качеств, которые должны сочетаться в каждом настоящем преподавателе и педагоге. Но время требовало свое, и, несмотря на то, что все опытные учителя ушли на фронт, школа должна была работать, а дети – учиться. Нам, деревенским ребятам, преподавали люди, зачастую просто умеющие читать и писать. Среди них были и те, кто по разным причинам не был призван на фронт и остался в деревне, и вчерашние бойцы, вернувшиеся с ранениями и увечьями. Вот такие люди и «обучали» нас грамоте, но горе такому «обучению», горе таким «методам» преподавания!
Конечно, речь идет не обо всех. Среди наших учителей было немало людей хороших, которые выполняли эту работу по мере своих сил и возможностей. И хотя в области знаний они мало что могли нам дать, их доброта, чистота и человечность научили нас многому, что заставляет нас, их бывших учеников, и по сей день вспоминать их имена с теплотой и благоговением.
Но сегодня речь пойдет не о них. Мне хотелось бы рассказать о двух эпизодах из жизни школы того времени, вернее, из той преподавательской практики, которую вели в нашей школе два так называемых учителя. Эти два эпизода наглядно демонстрируют, каким был подход к воспитанию подрастающего поколения в то тяжелое военное время, эхо которого докатилось и до нашей глухой деревни.
* * *
У нас был один «учитель», и даже с большой натяжкой его трудно было так называть – это был настоящий изверг. Мы, ученики, боялись его как огня, потому что единственным методом его обучения и воспитания были побои. Он так избивал учеников, словно все они без исключения были его злейшими врагами. Ни один урок не обходился без его побоев и ругани. Да-да, именно ругани, причем такой отборной, что мы, деревенские ребята, наслышанные всякой всячины, краснели и смущались от таких скверных слов. Учитель и ругань? Такое трудно представить, но он не стеснялся в выражениях, и никто не осмеливался остановить его, даже остальные наши учителя. А если вдруг среди них и находился какой-нибудь смельчак, он тут же оставлял нас и обрушивал на него всю нецензурную брань, которая в тот момент приходила ему в голову. Так было не раз, и чтобы избежать очередной неприятной сцены, наши учителя были вынуждены смириться и делать вид, что ничего не слышали. Сам же он, хоть и вернулся с войны с тяжелым ранением, был крепкого телосложения и силен как бык. Непредсказуемый и с невыносимым характером, он поступал так, как его душе было угодно: хотел – проводил урок, не хотел – не проводил. Ни директор, ни завуч, ни работники из отдела народного образования – никто не смел ему перечить как бывшему фронтовику, потому что все знали по опыту: ему слово, он – десять, а там уже и очередной скандал, закатанный им на пустом месте.
Мы очень его боялись. Так боялись, что, даже встречая его в деревне, спешили скрыться подальше от его глаз. Но он, если замечал наше бегство, на следующий же день устраивал в классе над нами расправу.
— Что же ты, голубчик, вчера, как увидел меня, пустился наутек, как трусливый заяц? Ведь ты умный мальчик и уже должен понимать, что, когда встречаешь своего учителя, надо не удирать от него, а наоборот, подойти к нему и поздороваться, – говорил с издевкой он и сжимал своими здоровыми толстыми пальцами худое плечо провинившегося так, что тот корчился от боли. – А чего ты кричишь? – и он изображал удивление и недоумение, как будто это вовсе и не он сдавливал плечо своей жертве. – Кричать не надо, не то сорвешь свой звонкий голос, – говорил и еще сильнее стискивал свои пальцы.
должен понимать, что, когда встречаешь своего учителя, надо не удирать от него, а наоборот, подойти к нему и поздороваться, – говорил с издевкой он и сжимал своими здоровыми толстыми пальцами худое плечо провинившегося так, что тот корчился от боли. – А чего ты кричишь? – и он изображал удивление и недоумение, как будто это вовсе и не он сдавливал плечо своей жертве. – Кричать не надо, не то сорвешь свой звонкий голос, – говорил и еще сильнее стискивал свои пальцы.
Ну, иди и объясни ему, зачем кричишь! Боль пронзает тебя так, что ты и слова выдохнуть не можешь и только молишь Бога о том, чтобы этот изверг поскорее тебя отпустил и положил конец страшной пытке.
И это было тогда, когда ты ничего особенного не сделал и никакой вины за тобой не было. Но стоило ему застукать нас, когда мы занимались чем-нибудь запретным, например, за игрой в бабки, вот тут-то начиналось что-то ужасное! Он был нас смертным боем и дубасил так, что мы долго не могли прийти в себя. Иногда, уставая наносить удары, он начинал кусаться и делал это с такой силой, что места от его укусов не проходили неделями.
И вот такой «учитель» преподавал нам историю и географию. Бедные, несчастные история с географией! Они, как и мы, безмерно страдали от этого изувера. Его уроки были настоящим издевательством не только над нами, но и над этими двумя науками.
Как я уже рассказывал, он был плотный мужчина здоровенного роста. Каждая его рука была похожа на огромную клешню. Он подходил к карте и, когда хотел показать на ней, допустим, Австрию, обводил своей клешней всю территорию Европы, а заодно и своим щедрым размахом прихватывал кое-где и Азию и говорил:
— Вот, Австрия находится здесь.
Ну, иди и догадывайся теперь, где именно расположена эта несчастная Австрия!
В те годы у нас не было учебников, и единственным источником обучения были объяснения учителя. Сумел ты что-то запомнить из этого объяснения – хорошо, не сумел – тебе же хуже. Но о каком запоминании могла идти речь на его уроках, когда от страха перед ним и при его косноязычном изложении материала мы впадали в состояние настоящего отупения? Мы не могли ничего воспринимать и попросту не учили те предметы, которые он «преподавал». А когда начинался опрос и мы, естественно, не могли ответить, вот тогда он давал волю рукам и избивал нас нещадно.
Как-то раз он, как обычно, вызвал ученика к доске и задал ему вопрос из истории средних веков. Тот, ясное дело, не смог ответить. Злорадно смолчав, он к нашему великому удивлению не тронул его и пальцем и лишь приказал оставаться у доски. Потом вызвал второго, но и тот не смог ответить. Ему тоже было велено оставаться на месте. Был вызван третий, потом четвертый, пятый… Но картина была той же: никто из них не знал ответа. Короче, он выстроил у доски почти весь класс. С нами училась одна  девочка – единственная на весь класс. И она не смогла ответить и встала рядом с другими. Очередь дошла до меня. Вызвали и меня. Но откуда мне, бедняге, было знать ответ? И я так же, как и все, встал у доски и замкнул этот ряд. (К слову сказать, в нашем классе все ребята были на несколько лет старше меня. Они не раз оставались на второй год, а я же учился лучше, вот и нагнал их. Все они были уже здоровыми парнями, не чета мне – маленькому и худенькому).
девочка – единственная на весь класс. И она не смогла ответить и встала рядом с другими. Очередь дошла до меня. Вызвали и меня. Но откуда мне, бедняге, было знать ответ? И я так же, как и все, встал у доски и замкнул этот ряд. (К слову сказать, в нашем классе все ребята были на несколько лет старше меня. Они не раз оставались на второй год, а я же учился лучше, вот и нагнал их. Все они были уже здоровыми парнями, не чета мне – маленькому и худенькому).
И вот он неторопливо подошел к началу ряда и приступил к избиению. Начал с самого первого ученика, который не смог ответить. Как он его избивал, как избивал! Это надо было видеть! С высоты своего огромного роста он наносил удары один за другим, но, не успокаиваясь, продолжал бить уже ногами. Бросал бедолагу на пол, начинал пинать, таскать за волосы, ударять головой об пол. Причем бьет и при этом страшно ругается. Вволю избив одного, посылает его на место. Тот идет, садится, плачет, исходится криком. Потом изверг принимается за второго, так же зверски избивает и посылает его на место. И так постепенно очередь приближается ко мне, и чем ближе она подходит, тем больше у меня трясутся поджилки. Я стою, смотрю на эту сцену и дрожу как осиновый лист. И мне кажется, что если он изобьет меня так же, как и остальных, я не выдержу, я умру, я не смогу это пережить!
Очередь доходит до той девочки. И ее он избивает как следует и отсылает на место.
У доски остаюсь я один. Он медленно подходит ко мне. На него страшно смотреть: тяжелое с хрипами дыхание, расширенные дикие глаза, пена у рта. Одного его вида достаточно, чтобы напугать до полусмерти. Трудно описать, что творится в моей душе в этот момент. От ужаса я еле держусь на ногах и дрожу так, как если бы босым и раздетым стоял на снегу в разгар лютой зимы. А он стоит передо мной как разъяренный бык, готовый вот-вот сорваться с места, тяжело дышит и смотрит мне прямо в глаза. Я, как загнанный зверек, не осмеливаюсь поднять голову, и единственное, на что у меня хватает сил, это смотреть на его руки. Ох, уж эти руки… Страшнее них нет ничего на свете… Когда же они поднимутся и обрушатся на меня со страшным ударом? Но руки почему-то не торопятся подниматься… Не знаю, сколько прошло времени в этом кошмарном ожидании, – минута, две, три… Я сжимаюсь в комок, инстинктивно втягиваю голову в плечи, уже ничего не соображаю и не могу не то что пошевелиться, но и дышать… И вдруг, как мне показалось, откуда-то издалека до меня доносится его голос:
— А ты уже получил свою трепку! С тебя и этого хватит! Убирайся на свое место и знай, что в следующий раз, если не ответишь, я семь шкур с тебя спущу! Убирайся!
Я не верю своим ушам и не могу пошевелиться. После всего того кошмара, который я видел своими глазами, после такого избиения чтобы я так легко, без побоев отделался? До меня это никак не доходит, и я не могу сдвинуться с места.
Видя, что я остолбенел, он как будто бы понимает мое состояние и даже немного смягчается. Почти спокойно он сжимает у локтя мою руку и сам отводит и сажает меня на мое место. Потом возвращается к своему столу, садится и закуривает.
Мои одноклассники, продолжая плакать и потирать свои ушибы, исподтишка поглядывают на меня и хихикают, но я не обращаю на это никакого внимания. Правда, мне неприятен их смех, но для меня самое главное это то, что я избежал этого ужаса. И все же мне кажется невероятным, что я так легко отделался, и все боюсь, что он передумает, вот-вот сорвется с места, кинется ко мне и отделает меня так же жестоко, как и всех остальных. Сижу, терзаюсь этими мыслями и украдкой поглядываю на него. А он и не думает двигаться с места и спокойно курит. Я, не переставая, молюсь про себя, чтобы он так и оставался сидеть на своем месте и не вздумал бы встать и направиться ко мне. Если, вертится у меня в голове, он вдруг поднимется со своего стула, я тут же на месте умру. Я не смогу вынести его побои.
А он, кажется, догадывается об этом и поэтому не двигается с места. Я же сжимаюсь и стараюсь спрятаться за спиной сидящего впереди, наивно надеясь, что чем меньше буду ему виден, тем быстрее он про меня забудет.
Постепенно плач и стоны моих бедных побитых товарищей стали утихать, и они, немного оживившись, принялись все чаще поглядывать в мою сторону, строить рожицы и хихикать. Правда, при этом они старались кривляться незаметно, чтобы не вызвать еще больший гнев нашего истязателя. Да, его боялись все, и никто не смел ему перечить, никто, кроме одного. Этот нагловатый и отчаянный ученик, если ему бы приспичило, мог ляпнуть что угодно, и никакие побои на свете не могли его остановить.
— Это почему ты нас всех избил, а его и пальцем не тронул? – дерзко сказал он и кивнул в мою сторону.
В классе наступила мертвая тишина. Все остальные, позабыв про обиду и боль, уставились на нашего изверга, с нетерпением ожидая, что же будет дальше. У меня оборвалось сердце – я перепугался, что он сейчас встанет, подойдет и изобьет меня как следует. Но он спокойно сделал следующую затяжку, посмотрел на меня и без всякого гнева сказал:
— А ты что, не видел, как у него душа ушла в пятки? Да он ведь чуть не умер от страха, весь побледнел, посинел… Шлепни я его хоть разок, он тут же бы протянул ноги. А вдруг действительно так и случилось бы? А потом иди и отвечай за то, что этот сопляк отправился на тот свет… С него хватит и того, что было…
Последние слова затонули во взрыве хохота. Смеялись все – и ученики, позабывшие про свои слезы, и он сам. Обидные шуточки сыпались на меня со всех сторон, но мне было на это просто наплевать. Самое главное было для меня то, что я сумел избежать того ужаса, который видел своими глазами. И это было для меня счастьем, самым настоящим счастьем! Оказывается, счастье – это еще и то, когда «учитель» не распускает руки и не бьет смертным боем своего ученика, пусть даже самого нерадивого…
* * *
Здание нашей школы состояло только из двух классных комнат, которых, конечно, не хватало для проведения занятий во всех семи классах. (Школа в нашей деревне была семилеткой, и с пятого класса в ней учились дети из соседней деревни, где была только начальная школа). И хотя мы учились в две смены, эти две комнаты все равно не могли вместить даже половины учащихся. Для этого руководство школы было вынуждено снимать комнаты и подходящие под классы помещения у сельчан, что жили рядом.
Обе классные комнаты, о которых идет речь, были смежными. Дверь школы находилась на уровне земли, и, открыв ее, прямо со двора можно было попасть в первую комнату. Ни лестниц, ни коридора даже в помине не было. Рядом начали было возводить фундамент и стены для нескольких других комнат, но война помешала закончить строительство, и в итоге успели соорудить только эти два класса, да и то наспех. До того ли было в те трудные годы, когда так остро ощущалась нехватка рабочих рук и строительных материалов?
Двор школы был довольно большой и буквально утопал в зелени. Не огражденный никаким забором, он был настоящей приманкой для скотины, которую держали наши сельчане. Очень часто туда забредали и часами паслись овцы, ягнята, телята, ослы, или длинноухие, как мы ласково их называли. Они щипали траву до тех пор, пока их не замечали учителя, которые тут же отсылали какого-нибудь ученика прогнать непрошеных гостей. А иногда, если им удавалось остаться незамеченными для зорких учительских глаз, мы сами, выходя на переменку во двор, прогоняли их подальше, причем делали это с большим удовольствием.
Класс, в котором занимались мы, был первым из смежных двух комнат. Школьным звонком служила старая соха, подвешенная на стене снаружи, а время звонка сверялось с единственными часами, которые были только у одного учителя. (А часы в то время были большой редкостью). Если он был в школе и не забывал следить за продолжительностью урока, то отсылал кого-нибудь из учеников ударить по этой сохе и тем самым известить о начале перемены. Мы шли, брали камень и запускали в эту соху, которая начинала звенеть так, что было слышно по всей округе. Но когда этого учителя не было в школе, другие учителя объявляли перемену, полагаясь только на свое собственное внутреннее ощущение времени. Забавно, но нередко получалось так, что у одного класса была перемена, а у другого в это же время урок еще продолжался.
У нас был один учитель, который преподавал нам армянский язык. Свои уроки он вел в основном на армянском, хотя прекрасно владел и курдским, а на переменах общался с нами только по-курдски. Мы так привыкли к этому, что даже если он на уроке обращался к нам на курдском (что было довольно редко), мы по привычке отвечали ему по-армянски. Не знаю почему, но это его раздражало.
— Я же к тебе по-курдски обращаюсь, чего ты мне по-армянски отвечаешь? – недовольно спрашивал он.
А мы с глупым упрямством даже после этих замечаний продолжали твердить что-то на армянском (вот что называется «приучил»!), невольно выводя его тем самым из терпения, за что и получали от него обидные затрещины.
А еще у него был свой особый метод обучения. Если он вызывал какого-нибудь ученика к доске, задавал ему вопрос и тот не мог на него ответить, он оставлял его стоять там же, у доски, и вызывал другого. А если тот, второй, давал правильный ответ, он приказывал ему ударить первого со всей силы. Но бывало и так, что и второй ученик не знал ответа, тогда он тоже оставался у доски, и вызывался третий, потом четвертый, пятый… И так очередь у доски могла вырасти до тех пор, пока очередной вызванный не давал правильного ответа. Вот тогда-то и начиналась та самая развязка: по приказу учителя ответивший верно по очереди влеплял всем затрещины – от первого до последнего.
Конечно же, этим дело не заканчивалось: побитые затаивали обиду и очень скоро сводили с ним счеты во время перемены или при встрече где-нибудь в деревне. Вот поэтому многие ученики, которые учились хорошо, боялись на таких уроках правильно отвечать. Они предпочитали получать плохие оценки и увесистые тумаки от учителя, нежели быть жестоко избитыми своими же одноклассниками.
Однажды во время очередного урока армянского языка учитель вызвал к доске одного ученика и поручил ему сделать разбор предложения. Вызванный был здоровенным смуглым детиной, которого боялись все в нашем классе. У него было еще трое братьев, таких же рослых и сильных. Они учились в нашей школе в разных классах, но чуть что – все, как один, готовы были расправиться с теми учениками, кто осмелился бы не угодить хоть одному из братьев. Учился он плохо (особенно хромали его знания по армянскому языку), но это не мешало ему командовать всем классом, а всем четверым – во всей школе.
Как я уже сказал, он учился плохо и, конечно, не сумел справиться с заданием. Учитель внимательно оглядел весь класс и почему-то к доске вызвал именно меня. Наслышанный о его с братьями «подвигах», он меня предупредил:
— Я знаю, ты справишься. Но не дай Бог тебе не ответить правильно, я тебе голову оторву! И тогда пеняй только на себя!..
Я перепугался, потому что знал, что он не шутит. И про себя решил – будь что будет, но задание выполню как надо. Взяв в руки мел, я принялся за дело. Разобрав предложение без запинки, я положил мел на место и без разрешения учителя поспешил к своему месту, лелея в душе слабую надежду, что на этом все закончится. Но я ошибался. Приказав мне остановиться, учитель подошел ко мне, взял меня за ухо и отвел к доске, где стоял тот нерадивый ученик.
— Ну, а теперь дай ему как следует, – сказал он и отпустил мое ухо.
Я знал: не ударю – буду избит сам. Но с другой стороны, мне вовсе не хотелось, чтобы этот ученик стал моим врагом, и я решил ударить его несильно, чтобы он понял, что я просто вынужден это сделать. И я, делая вид, что размахиваюсь не на шутку, всего лишь легонько стукнул его.
— Говорю тебе, врежь ему как следует, чтобы искры из глаз посыпались, – разозлившись, сказал учитель и снова скрутил мне ухо, – а не то вырву тебе ухо с корнем!
Меня пронзила острая боль, и я решился. Развернувшись, я ударил того ученика по лицу с такой силой, что он еле удержался на ногах. И именно в эту секунду дверь нашего класса со скрипом открылась, и в ней показалась голова осла, с любопытством заглянувшего внутрь.
— Ты смотри-ка! – покачал головой учитель и заулыбался. – Как будто почувствовал, что его товарища бьют, и поспешил прийти ему на помощь…
Класс грохнул от смеха. От души смеялись все, кроме нас двоих – меня и того ученика. Мы продолжали понуро стоять у доски. До смеха ли было ему, сгоравшему от стыда и раскрасневшемуся как рак, и мне, боявшемуся его неминуемой жестокой расправы?
Среди всеобщего веселья наш учитель, хохоча, обратился к тому бедолаге:
— Послушай, скажи своему товарищу, пусть убирается подобру-поздорову, иначе этот (а «этим» был я) и ему врежет между ушей как следует…
Грянул новый взрыв хохота. Ученики, держась за животы, покатывались со смеху. А сам учитель, не в силах совладать с собой, то и дело вытирал платком слезы…
Короче, увидев, что веселье затянулось, он сам подошел к двери, прогнал осла и, вернувшись, позволил нам сесть на свои места.
Я уныло поплелся к своей парте и с ужасом думал о том, что меня ждет на перемене. Я был уверен, что побоев не миновать, и поэтому сидел хмурый и подавленный.
Наступила перемена, но я боялся выходить во двор и остался в классе. Вдруг ко мне подошел тот самый ученик и тихо сказал:
— Я знаю, ты не хотел меня ударять, это все он. И поэтому не буду тебя трогать. С сегодняшнего дня ты мой друг, и если кто-то вздумает тебя обидеть, ты только скажи, и я расправлюсь с ним как следует.
И действительно, с того самого дня мы стали близкими друзьями. И хотя особых врагов у меня не было, имея такого покровителя, я чувствовал себя намного свободнее и спокойнее.
Эта история с ослом стала известна всей деревне. Что и говорить – все рассказывали ее друг другу и посмеивались. Но больше всего мне запомнились слова отца этого ученика, человека всеми уважаемого, почтенного и с изрядным чувством юмора:
— Эх, а может, осел для того и пришел, чтобы хоть немного образумить учителя и втолковать ему, что так поступать нельзя…
Художник Арыф Савынч.
БЫЛО УЖЕ ПОЗДНО…
БЫЛО УЖЕ ПОЗДНО…
Посвящается памяти моей матери —
САЙРА ХУДО
Многочисленная детвора нашей деревни была очень дружна. С самого утра до позднего вечера мы играли в разные игры и вовсю резвились, постоянно придумывая себе всё новые и новые развлечения. Очень часто, особенно весной и летом, когда начинало темнеть, мы усаживались где-нибудь, и ребята постарше начинали рассказывать нам сказки или истории про волков и диких зверей, и мы, боясь пропустить хоть одно слово, слушали, как завороженные.
Но нередко такие рассказы прерывались кем-нибудь из наших товарищей. Он мог встать и со словами «Отец уже вернулся домой, мне пора» оставить нас и помчаться к себе.
Иногда кто-то из них появлялся в новой одежде и начинал важно и гордо прохаживаться перед нами. «Это мне отец купил», – хвастался счастливчик, разглядывая свою обновку.
Многие из нас смотрели на этих ребят с завистью. Наших отцов не было с нами рядом – они ушли на фронт. Война разлучила нас с нашими отцами и еще крепче привязала к матерям.
Мой отец тоже ушел на войну. Все заботы обо мне легли на плечи мамы, и она делала для меня все, что было в ее силах: как могла, шила мне одежду, как умела, шила чарыхи… Конечно, то, во что я был одет и обут, было совсем не то, что у некоторых моих ровесников. У них были получше и одежда, и обувь. У меня никогда не было калош и туфель, в которых они расхаживали, и, глядя на свои поношенные чарыхи, я расстраивался и сильно переживал.
— Ничего, сынок, – утешала меня мама, – твой отец скоро вернется и купит своему мальчику и новую одежду, и новые туфли.
Но это «скоро» никак не наступало. Прошло четыре года, но он не возвращался. Война закончилась, но вместо моего отца пришла похоронка, или, как еще ее называли, «черная бумага». Я не знал, действительно ли эта бумага черная и что там было написано, но я увидел, что после нее мама повязала голову черным платком и выплакала все глаза.
И я вырос без отца. Мама стала мне и отцом, и матерью.
Ее единственной отдушиной был я, и всю себя она посвятила только мне. Даже если я был дома, но не перед ее глазами, она начинала беспокойно искать меня взглядом и успокаивалась только после того, как находила. В ее глазах вспыхивал теплый огонек, и она, облегченно вздохнув, продолжала заниматься своими бесконечными домашними делами. А работала она очень много – с раннего утра до позднего вечера – и сильно выматывалась, стараясь прокормить нашу маленькую семью.
В то время я не понимал всей глубины ее усилий и стараний, чтобы поднять сына, тогда я был еще ребенком.
… Наша семья не держала никакой скотины – мы были для этого очень бедны. Ну, а у таких, как мы, ясное дело, не было ничего из того, что годилось бы зимой на растопку печи. (В то время в нашей деревне топили только кизяком). И мы с мамой шли в поле собирать кизяк. Она повязывала на поясе большую шаль, куда мы и складывали весь кизяк. Когда его набиралось достаточно, я открывал прихваченный из дома большой мешок, и мама начинала пересыпать собранное туда, а потом, оставив меня у этого мешка, дальше уже шла одна и набирала в свою шаль новую порцию драгоценного для нас топлива. Когда мешок наполнялся доверху, она крепко его завязывала и, пригнувшись, просила меня приподнять его и взгромоздить ей на спину. Но мешок был так тяжел, что мне часто не хватало на это сил. И тогда мы, взяв его за оба конца, тащили к ближайшему большому камню и, прислонив к нему мешок, кое-как приподнимали наш груз, и я в меру моих детских сил укладывал его маме на спину. Приладив мешок поудобнее, она поворачивалась ко мне:
— Ну, пошли, сынок, – и, пропустив меня вперед, шла за мной размеренными и неторопливыми шагами, сгибаясь под тяжестью своей ноши. И всегда было так: я впереди, а она за мной, чтобы не выпускать меня из виду ни на одну минуту.
Как-то раз мы пошли за кизяком к подножью горы. Поднимаясь все выше и выше, мы снова набрали полный мешок и стали спускаться обратно. Как всегда я шел впереди и не помню, как это случилось, но я споткнулся и стремительно покатился по крутому спуску вниз. Еще немного, и я свалился бы в глубокий овраг, как мама, отшвырнув мешок, кинулась за мной и успела схватить за штанину. Но старая ткань треснула и тут же разорвалась, и я не знаю, что было бы дальше, если бы мама не сделала еще один рывок и не накрыла меня своим телом. Ее крик до сих пор стоит у меня в ушах… Торопливо подняв меня на ноги, она крепко прижала меня к груди и заплакала… Я слышал, как сильно у нее стучало сердце… Она плакала и не могла остановиться и при этом смотрела на меня глазами, в которых все еще стоял ужас потерять меня и в то же время светилось счастье, что я стою перед ней живой и невредимый.
В то время я не осознавал всего этого, не понимал всей глубины страха матери потерять ребенка, я был тогда еще несмышленым.
… Была весна, и сезон сильных дождей был в самом разгаре. Я собирал съедобные травы и, увлекшись этим делом, перешел на другой берег реки, протекавшей около нашей деревни. За поисками я и не заметил, как далеко отошел от берега, и в это время погода вдруг испортилась, и хлынул ливень. Он лил как из ведра, и пока я добежал до берега, река забурлила и вышла из своих берегов. Я боялся войти в воду и перейти реку, и поэтому остался на берегу и горько заплакал. Я и до сих пор не могу понять, как среди шума потоков воды и грохота грома мама смогла услышать мой плач. Она прибежала и сразу вошла в реку, но тут же поскользнулась, и ее стало уносить течением. Я с криком и плачем бежал за ней вдоль берега и не знаю, какая сила заставила ее приблизиться к тому берегу, где был я, и ухватиться за выступ огромного камня. Она кое-как выбралась и, мокрая с ног до головы, кинулась ко мне, обняла и без сил осела на землю. Страх перед бурным водным потоком так сковал ее, что она совсем обессилела, и мы прождали до тех пор, пока дождь не прекратился. Придя в себя и поднявшись, мама прошла еще немного вдоль берега и наконец нашла неглубокое и безопасное место. Взяв меня на руки, она перешла через эту мель и, не спуская меня на землю, принесла домой. Я, насквозь промокший, весь дрожал, у меня стучали зубы, но она, казалось, не чувствовала никакого холода и все крепче прижимала меня к себе. Постепенно я перестал мерзнуть и согрелся, а, оказавшись дома, сам того не заметил, как уснул.
В то время я многого не знал, многого не понимал. Только со временем я осознал, что меня согрел и спас огонь ее любви, только со временем…
… Прошли годы. Я подрос, закончил среднюю школу и решил поступать в институт. Но как же мама? Рассудив, я прикинул, что ничего страшного не будет, если она на какое-то время поживет одна. «Буду часто ей писать, приезжать на каникулы», – так рассуждал я и твердо решил уехать в город.
В ночь перед моим отъездом мама не сомкнула глаз. Она делала последние приготовления, а у самой в глазах мелькала то радость, то печаль. Она радовалась тому, что сын едет учиться, чтобы, как она любила повторять, «стать человеком». А печалилась потому, что сын уезжает, и впервые за эти годы его не будет рядом с ней.
На следующий день с этой тоской и радостью в глазах она и пошла провожать меня в город. Дойдя до конца деревни, она остановилась, поцеловала меня, попрощалась и повернула обратно, но, немного пройдя, остановилась и смотрела мне вслед до тех пор, пока я не скрылся из ее виду за очередным спуском.
Я стал студентом. Письма приходили и уходили, но те, которые шли из деревни, приходили чаще. «Твои письма тобой не пахнут, сынок», – часто писала она. Но тогда я был молод, я был беспечен.
Когда я приезжал на каникулы, она осыпала мое лицо поцелуями и, обняв, крепко прижимала к себе и долго не отпускала. Она смотрела на меня такими глазами, словно хотела в этом взгляде утолить свою тоску, и никак не могла насмотреться.
За все это время, пока я был дома, она готовила то, что я любил, садилась напротив меня и, не притрагиваясь ни к чему, все смотрела и смотрела на меня. Сколько любви и тоски было в этом взгляде… Потом принималась рассказывать мне о наших домашних делах, о соседях, односельчанах, и удивительно было то, что она, как бы чувствуя, о чем конкретно мне хотелось бы узнать, именно об этом и начинала рассказывать.
На следующий день она надевала свои лучшие наряды, и мы шли в гости к ее брату. Сколько радости и гордости было в ней в эти минуты… Казалось, все ее лицо светилось и говорило окружающим: «Посмотрите, каким замечательным парнем стал мой единственный сын»…
В то время мне и в голову не приходило, как сильно скучает по мне моя мама, как не находит себе покоя и считает дни и часы до моего приезда…
Тогда я был молод, беспечен и не чувствовал того, что моя бедная мама всю любовь и теплоту своей души отдавала мне. Я тогда еще не понимал, что такое любовь матери.
… Она проводила меня в город во второй раз. И опять, как тогда, она вышла со мной за деревню, попрощалась со мной и повернула обратно. Пройдя несколько шагов, она остановилась, но не обернулась – она не хотела, чтобы я увидел, как она плачет. Вытерев глаза подолом фартука, она резко повернулась и подошла ко мне. Она уже не плакала, хоть глаза ее и были влажными. Как я ни уговаривал ее вернуться, она отказалась и настояла на том, что не уйдет, пока я не уеду.
На этот раз я видел, что мама уже не та, что она сильно изменилась. Она казалась мне еще более похудевшей, измученной и не такой расторопной, как раньше. В глазах то и дело мелькал страх, и я, хоть и чувствовал, что мама чего-то очень боится, не рисковал у нее ничего спрашивать. А даже если бы и спросил, она все равно бы не сказала мне правды. Разве стала бы она свои переживания и печали перекладывать на плечи сына?
Она проводила меня до автобуса и, не выдержав, бросилась мне на грудь и расплакалась. Я тоже уже не мог сдерживаться и смахнул рукой набежавшие слезы. Увидев это, она как будто чего-то испугалась и, шагнув назад, внимательно посмотрела на меня. Потом она взяла себя в руки, отругала меня за минуту слабости и с улыбкой и в приподнятом настроении посадила в автобус, и я уехал.
Прошло несколько месяцев. Она послала весточку, чтобы я приехал. Был уже поздний вечер, когда я вернулся домой. Мама больная лежала в постели, и когда я вошел, повернула ко мне голову, и из ее измученных глаз закапали слезы. Я поцеловал ее, взял за руку, присел рядом и заговорил, но, к своему ужасу, обнаружил, что она не может говорить. Как мне рассказали, эта болезнь у нее началась с сильного страха и потрясения: оказывается, ей приснился сон, будто бы меня на ее глазах зарезали, и, закричав во сне, она проснулась. С того самого дня у мамы пропал голос. И, как это ни горько, именно я стал тому причиной.
Несколько дней я не отходил от ее постели и был все время рядом. Она же все это время смотрела на меня и молча плакала. Но, даже лишившись голоса, она продолжала со мной разговаривать, и понимание и общение между нами не прекращалось. Стоило мне встать и пройтись по комнате, как она начинала искать меня своими большими печальными глазами и не успокаивалась до тех пор, пока не находила… Как это напоминало картину из моего детства!.. Иногда у нее тяжелели веки и медленно опускались. В такие минуты мне казалось, что она уснула, но вдруг ее глаза открывались и снова искали меня вокруг и, найдя, молча просили, чтобы я подошел и сел рядом.
В последний раз она взяла мою руку, приложила к своим глазам и долго не отпускала. Я почувствовал, как под моей рукой затрепетали ее веки, и моя ладонь увлажнилась. Из-под нее выкатилось несколько слезинок и потекло по ее щекам. Не отнимая руки с глаз мамы, я посидел еще немного, а убрав ее, увидел, что глаза ее закрылись… Так, с моей рукой на своих глазах и ушла из жизни моя мама.
Мамочка, моя родная, ты прости меня, я тогда был молод, много чего не знал и не понимал. Только тогда я все осознал, почувствовал и оценил, когда сам стал отцом. Но было уже поздно…
